«Стоит идти в глубину относительно того, чему и как мы учим»
Интервью о настоящем и будущем корпоративных университетов. Могут ли они заменить традиционные вузы или потеснить игроков EdTech-индустрии?


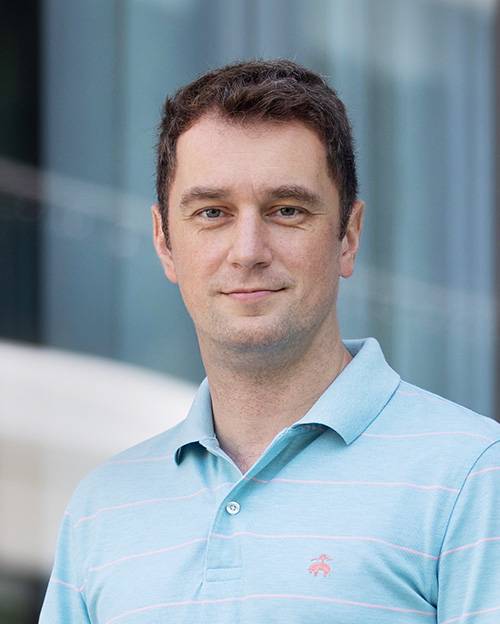
Александр Шаталов
Проректор по обучению СберУниверситета.
В СберУниверситете с 2013 года. Координировал разработку стратегии СберУниверситета в 2013 и 2018 гг. Руководил Центром уровневых программ, был директором по учебно-методической работе.
СберУниверситет
Создан в 2012 году как корпоративный университет Сбербанка. В настоящее время предлагает образовательные программы не только для сотрудников Группы Сбера, но и для внешних слушателей, как в офлайн-, так и в онлайн-форматах.
В портфеле СберУниверситета более 590 образовательных решений для развития мягких, цифровых и профессиональных навыков.
Обучение в СберУниверситете ежегодно проходят более 40 000 слушателей.
В этом интервью мы обсудили:
- зачем корпоративные университеты выходят на внешний рынок, если не собираются «откусить» долю рынка у бизнес-школ и EdTech-компаний;
- как в корпоративном обучении решается задача доращивания джунов до уровня мидлов;
- почему у партнёрства бизнеса с вузами больше перспектив, чем у создания своего вуза, чтобы с нуля учить специалистов для корпорации;
- чем корпоративные университеты могли бы быть полезны вузовским преподавателям и вузам в целом;
- в чём суть персонализации обучения в корпоративной среде и решил ли уже кто-то эту задачу, о которой так много говорят.
Корпоративные университеты, бизнес-школы и EdTech: есть ли вероятность конкуренции?
— Корпоративные университеты традиционно сильны в обучении руководителей разного уровня. Кажется логичным, что они могут предложить такое обучение и внешнему рынку (некоторые уже предлагают). Как вы считаете, могут ли корпуниверситеты потеснить в этом сегменте традиционные бизнес-школы?
— Сомневаюсь. Дело в том, что нет такой принципиальной задачи для корпоративных университетов. Наша задача — работать на свои материнские компании, на развитие их руководителей. И этой работы нам хватает. Мне кажется, «выход вовне» корпоративных университетов должен иметь более фундаментальную цель, чем попытка заработать.
— Но СберУниверситет всё-таки выходит вовне, предлагая программы обучения внешней аудитории. С какими целями, если не ради дохода?
— Мы пошли во внешний рынок в первую очередь для поддержки развития клиентских отношений Сбера — в рамках цифровой трансформации. Обучение выступает одним из элементов, через который мы это реализуем. Выручка — производное от движения к этой большой задаче.
Могу добавить, что когда в 2023 году проходил очередной форум корпоративных университетов, панель, которую доверили СберУниверситету, была посвящена как раз вопросу коммерциализации программ. Не скажу, что мы обошли прямо все корпуниверситеты, но постарались погрузиться в изучение этой темы. Оказалось, что выход вовне — совсем не массовая история, по этому пути пошли немногие корпоративные университеты. И те, кто что-то предлагает на внешний рынок, как и мы, делают это не ради получения выгоды, а с иными целями и задачами.
— Хорошо, но если бы материнские компании поставили такую цель — зарабатывать (всё-таки доходы лишними не бывают), то, наверное, корпоративные университеты могли бы составить конкуренцию бизнес-школам?
— Это вопрос специфики сегментов. Мы с бизнес-школами вполне можем разойтись по разным нишам. Объясню, что имею в виду: корпоративные университеты как будто вполне состоятельны, когда предлагают какие-то краткие или среднесрочные образовательные решения, сфокусированные на определённых практикоориентированных вопросах. У СберУниверситета это, например, цифровая трансформация, финансы, риски — здесь мы можем поделиться экспертностью Сбера. Поэтому у нас есть линейка таких программ.

Но программы, которые традиционно являются хедлайнерами бизнес-школ — МВА и executive МВА, — как будто не совсем наша ниша. Всё-таки корпоративные университеты больше ориентированы на прикладные задачи, на распространение своего опыта, чем на формирование фундаментальных знаний, как это принято на подобного рода программах в бизнес-школах.
Поэтому полем определённой конкуренции, наверно, может выступать только чистый Executive Education, но, опять же, здесь у всех свои ниши, свои клиенты, свой фокус. Так что аудитория может выбирать, что ей ближе под конкретные задачи и потребности.
— Учитывая, что у корпоративных университетов теперь есть опыт не только в образовательных программах для управленцев, но и в обучении IT-навыкам, я хотела ещё спросить, могут ли, на ваш взгляд, корпоративные университеты в будущем начать серьёзно конкурировать с EdTech-индустрией — с онлайн-школами, обучающими прикладным профессиональным навыкам. Но здесь, наверное, тот же принцип, который вы уже озвучили: у вас просто нет такой задачи, да?
— Да, это не наше поле и принципиально другой вид бизнеса. Мне, по крайней мере, неизвестны кейсы корпоративных университетов, которые пошли бы в этом направлении. Наш профиль — управленческое обучение, подготовка IT-специалистов. При этом обучение идёт и в кампусе СберУниверситета, и онлайн. У нас есть свои цифровые платформы для этого, но они не предназначены для задачи массовых продаж на В2С-рынке. А EdTech — это в основном В2С, это платформы с большим количеством контента, штат продавцов и целая машина продаж.
«Доращивание» джунов до мидлов как задача для корпоративных университетов
— Поскольку один из ваших профилей — подготовка IT-специалистов, поделитесь, пожалуйста: у СберУниверситета есть свои хорошие наработки для «прокачивания» джунов до мидлов?
— Мы работаем над этим. Это большая задача, и, скажем так: в ней нет предела совершенству. Для того чтобы «прокачать» джуна до мидла, важна выстроенная интеграция с рабочими задачами. Если джуна можно подготовить, условно, без глубокого погружения в реальные задачи, то продвинуться дальше можно только через непосредственную отработку. И для нас сейчас как раз большой вызов, как эту интеграцию настроить. Вместе с блоком технологий Сбера мы сейчас определяем, каким должно быть платформенное решение для этого и как оно должно дальше интегрироваться в рабочие задачи и обучение, чтобы максимально поддерживать движение человека от джуна к мидлу и далее.
— А готовых классных методологических решений, как быстро дорастить джуна до мидла, на рынке тоже ещё не существует, идёт их поиск?
— На мой взгляд, да.
— Смотрите: когда такие решения будут найдены, их, возможно, получится масштабировать. Вам не кажется, что как раз это может стать уникальной нишей, в которой крупные корпоративные университеты могут успешно работать для внешних заказчиков? Ведь сейчас и для IT-, и для EdTech-индустрии большая проблема — «проклятие джунов»: их уже переизбыток на кадровом рынке, при этом мидлов не хватает, но вырастить из джуна мидла на обычных курсах невозможно, это, как вы справедливо заметили, происходит в рабочей среде.
— Возможно, многие и рады бы оказывать на внешний рынок услугу по развитию джунов до мидлов. Но тогда начнётся конкуренция за людей. Идея отпустить своих начинающих разработчиков на внешнее обучение может вызывать опасения у коллег из других компаний. Сложно сказать, в какой форме это могло бы быть реализовано для внешнего рынка, чтобы не создавалось ненужных волнений.
— Вы имеете в виду, что если предлагать развитие джунов до мидл-уровня как услугу на внешний B2B-рынок, то другие компании будут попросту бояться отправлять сотрудников в СберУниверситет, чтобы Сбер не переманил лучших к себе?
— Я вполне допускаю подобные размышления со стороны руководителей других компаний.
— А если подумать не про В2В-, а про В2С-сегмент, чтобы джуны, которые хотят получить такое развитие, по своей инициативе шли в СберУниверситет и сами платили за это обучение?
— Здесь ключевой вопрос будет о том, что делать с практикой, благодаря которой джун и становится мидлом.
Чем корпоративные университеты могут быть полезными высшему образованию
— Давайте немного пофантазируем. Вот сейчас много критикуют вузы за то, что они не успевают за реалиями рынка труда, из-за чего работодателям приходится самим доучивать или даже переучивать выпускников, когда те выходят на первую работу по специальности. А как вы думаете, может, со временем корпоративные университеты начнут вообще с нуля готовить специалистов чётко под задачи своих корпораций и тем самым заменят вузы?
— Понятно, что критиковать можно всех. И понятно, что много чего надо менять, развивать и совершенствовать в системе образования. Но по целому ряду соображений мне не кажется, что пытаться заменить высшее образование — это правильное направление для корпоративных университетов. Корпорации, как бы им ни хотелось этого, такую задачу не потянут.

Всё равно за 4–5 лет в университете невозможно дать человеку такой набор прикладных навыков, которых ему будет достаточно на всю жизнь. В любом случае придётся снова и снова учиться чему-то новому. Да даже за эти 4–5 лет, пока человек учится в вузе, уже много чего успеет поменяться из-за темпов развития технологий, и это будет сильно влиять на рабочие задачи. Например, четыре года назад ИИ был на совсем другом уровне развития, чем сейчас. Поэтому цель высшего образования — подготовить человека к жизни, научить его мыслить, чтобы он и дальше мог развиваться, адаптироваться к новым ролям и рабочим задачам.
А задачу сближения представлений студента с реалиями бизнеса, мне кажется, в состоянии решить различные варианты совместных программ и глубокая интеграция разных компаний в реализацию тех или иных образовательных программ вузов. У Сбера, например, 52 совместные программы с разными университетами. У таких партнёрств больше перспектив, чем у создания собственного вуза.
— Почему?
— Потому что в случае с партнёрствами у студентов формируется большая насмотренность, а не только тоннельный взгляд на то, что делает условный «Сбер» или кто-то ещё. Высшее образование должно быть палитрой возможностей для студентов, а зацикленность на одном технологическом и профессиональном стеке эти возможности сужает.
И не надо забывать, что в вузах тоже сосредоточено много своей профильной экспертизы. Есть много вещей, которые корпоративные университеты не умеют и не факт, что когда-нибудь научатся делать, — научная работа, например.
Поэтому я здесь скорее ратовал бы за сближение и уплотнение взаимодействия с вузами, чтобы помогать студентам и преподавателям быть в теме того, что происходит в компаниях, которые — да — иногда бегут быстрее, чем вузы.
— Широкая насмотренность — это, конечно, хорошо, а тоннельность взгляда — плохо. Но не секрет, что многие прикладные магистратуры в вузах, открытые в партнёрстве с тем или иным бизнесом, как раз и заточены на то, чтобы подготовить специалиста для конкретной корпорации. Разве это не «тоннельность»?
— В магистратуре такая специализация кажется более релевантной, чем в бакалавриате, ведь за предыдущие четыре года студент уже получил какой-то общий каркас и начинает целиться конкретно в будущее трудоустройство. Он может выбрать программу с выходом на конкретного работодателя. Почти все совместные программы Сбера с вузами, кстати, в основном — магистерские.
И партнёрская программа не обязательно означает тоннельность. Приведу пример партнёрской магистратуры с МФТИ, посвящённой высокотехнологичному бизнесу. Её цель в том, чтобы подготовить умных ребят, знакомых с технологиями, к работе в бизнесе. Но при этом вопрос, какой путь ребята для себя выберут, остаётся открытым. Они могут пойти в корпорации, и в частности в Сбер, а могут создать свои технологические стартапы.

Кстати, эта программа — хороший пример того, почему корпорациям лучше готовить специалистов в партнёрстве с вузом, а не самостоятельно. В МФТИ сильная технологическая экспертиза и много научных лабораторий. Наверное, в теории их можно заменить чем-то своим, но зачем? Правильная интеграция с нужным вузом даст лучший эффект.
— Вы упомянули, что корпорации могут помочь не только студентам, но и преподавателям быть более актуальными. У СберУниверситета есть интересный опыт в этом отношении. Я имею в виду вашу Летнюю цифровую школу для преподавателей вузов и колледжей, которая существует уже пять лет. Расскажите, для чего она появилась и чему конкретно там учат?
— В Летней школе десять тематических треков, из них четыре посвящены IT, два — финансам и риск-менеджменту, также есть треки по ESG, проектному управлению, мягким навыкам и продуктовому дизайну. В этих треках мы активно делимся наработками, инструментами. Обучение организуется в онлайн-формате и длится два месяца.
Я бы сказал, для Сбера в целом это благотворительный проект. Он бесплатен для участников, а ключевая цель — поделиться нашими практиками, чтобы преподаватели в дальнейшем использовали наши инструменты и кейсы при обучении студентов.
Мы потом мониторим в течение года, кто их в итоге использует и как. Но в этом отношении никаких KPI не стоит — это нужно больше для нашего понимания, принёс ли тот контент, которым мы поделились с преподавателями, пользу и дошёл ли до студентов.
— Сейчас есть громкая тема, связанная с идеей обязать сотрудников IT-компаний преподавать в IT-вузах. Как вы считаете: а может, стоит как раз наоборот — отправлять преподавателей вузов в IT-компании набираться практических кейсов, инструментов, рабочих подходов?
— Я думаю, что можно совмещать и то и другое. Обучение преподавателя — это некоторый отложенный эффект, зато значимый для всей системы. Студентов мы сейчас поучили, на следующий год надо учить новых. А преподаватели могут мультиплицировать знания, которые приобрели. Мне кажется, в это стоит вкладываться, если мы хотим в совокупности поддерживать дальнейшую трансформацию и актуализацию системы образования.
— Александр, у вас есть опыт работы не только на стороне бизнеса, но и в вузе. Если рассуждать более масштабно, то что корпоративные университеты со своей стороны могли бы дать полезного вузам? Что у вас есть такого, чего нет у них?
— Мне в этом плане в своё время очень понравились рассуждения директора Корпоративного университета РЖД Романа Баскина. Он роль корпоративных университетов описал примерно так: мы ближе к бизнесу, чем любой вуз, и, соответственно, лучше понимаем актуальные потребности бизнеса, его язык и задачи. Но при этом мы ближе к вузу, чем бизнес, потому что понимаем базовые законы образования, построения учебных программ, знаем этот рынок. То есть, по сути, мы выступаем интегратором между бизнесом и вузами.

Мы могли бы, наверное, делиться с вузами нашим пониманием бизнес-реалий, знанием тех прикладных инструментов, которые используются в работе, и того, как определённые подходы реализуются в компании и дают какой-то результат. Мы обобщаем такой опыт и передаём его внутри корпорации, но в каких-то аспектах он может быть применим и для преподавателей, и для управленческих команд вузов.
В чём суть персонализации обучения в корпоративной среде
— Я в нашей беседе сделала два предположения, в какую сторону корпоративные университеты могли бы расти дальше, если захотят масштабирования: выйти на внешний рынок бизнес-образования или EdTech, начать делать собственное высшее образование. Вы опровергли оба предположения. А лично вы как думаете: как могут развиваться корпоративные университеты дальше?
— Я думаю, что нам сейчас надо расти не в масштабе, а в глубину. Всё-таки задачи корпоративных университетов должны лежать в первую очередь внутри корпорации.
А под глубиной я понимаю, во-первых, более глубокое понимание человека. И здесь у нас есть больше инструментов, чем зачастую бывает у вузов и других образовательных организаций.
— Почему больше?
— Потому что когда человек находится внутри корпорации, мы про него знаем гораздо больше и можем знать ещё больше. Это даёт нам разные возможности относительно того, как выстраивать его обучение, что ему рекомендовать, как его продвигать.
Во-вторых, стоит идти в глубину относительно того, чему и как мы учим. Мне кажется, здесь тоже есть большой простор для изменения подхода — в частности, с опорой на ИИ-ассистентов.
Сейчас такие технологии и возможности их применения в некотором смысле находятся на стартовых этапах. Но в перспективе можно будет сделать связку между пониманием, как человек работает, что из навыков в его рабочей действительности «западает», и его поддержкой через ИИ-ассистента или другими способами, чтобы давать ему именно тот контент, который действительно нужен в моменте и в удобном для него формате. Это, наверное, становится такой задачей мечты, к которой мы должны стремиться. Реализация этой задачи позволит отойти корпоративным университетам от создания большого количества разного рода электронного контента. Надо идти вглубь.
— То есть под «идти в глубину» вы подразумеваете максимальную персонализацию благодаря растущим цифровым возможностям, так?
— Да, всё так, но важный момент, который я подчеркну: персонализация важна именно в интеграции с рабочими задачами. То есть нужно выстроить систему более глубокого понимания, что конкретному человеку нужно сделать, чтобы стать более эффективным в своей нынешней профессиональной роли или перейти на следующую профессиональную роль.
Также нужно предоставить сотруднику соответствующее образовательное решение в соответствии с его целями и мотивацией. Сейчас, с развитием технологий и цифровых следов, как будто появляется определённая перспектива если не решить эту задачу полностью, то хотя бы продвинуться в этом направлении. Понятно, что поначалу не для всех профессиональных ролей — надо начинать с каких-то категорий, которые уже сейчас лучше оцифрованы и в большей степени требуют хардовых скиллов. Но потом, я думаю, и к остальным можно будет постепенно прийти.
— На какие блоки, этапы можно разложить эту большую задачу?
— Во-первых, нужна оцифровка требуемых навыков. Но тут ключевая проблема — многообразие профессиональных ролей, что делает эту задачу не очень подъёмной. Слишком много ролей и много навыков, которые требуются на разных позициях. Тем не менее это нужно как-то сделать, чтобы в явном виде доносить до сотрудника, что конкретно от него требуется с точки зрения умений.
Во-вторых, надо сформировать достаточное количество учебного контента, то есть разного рода образовательных продуктов, которые помогут человеку в его движении из точки А в точку Б (я имею в виду трек профессионального развития) там, где ему не хватает каких-то навыков.
И в-третьих, необходимо как-то это всё связать с более-менее объективными результатами рабочей деятельности и системами оценки со стороны руководителя и коллег. Чтобы мы видели, что, пройдя программу, проделав учебные задания, человек стал эффективнее в определённой группе рабочих задач. Тогда этот контур замкнётся и будет способствовать продвижению и развитию людей с учётом их рабочих задач.
— Конкретно в СберУниверситете вы в этой задаче персонализации сейчас на каком этапе?
— Я бы сказал, мы продвинулись в части контентного блока — нам есть что предложить людям. Но в части понимания человека и оцифровки требуемых навыков, а тем более в части интеграции обучения с рабочими результатами мы только начали путь.
— А вам известны в России или за рубежом хорошие примеры, где уже удалось решить все три блока задач, которые вы описали, и выстроить персонализацию обучения?
— Я пока не встречал толковых решений, которые максимально соответствуют желаемому образу. Видел примеры, где коллеги тоже пытаются продвинуться в эту сторону. Но я не могу сказать, что уже видел всё существующее на рынке. Поэтому не исключаю, что где-то это уже существует.
Читайте также:









