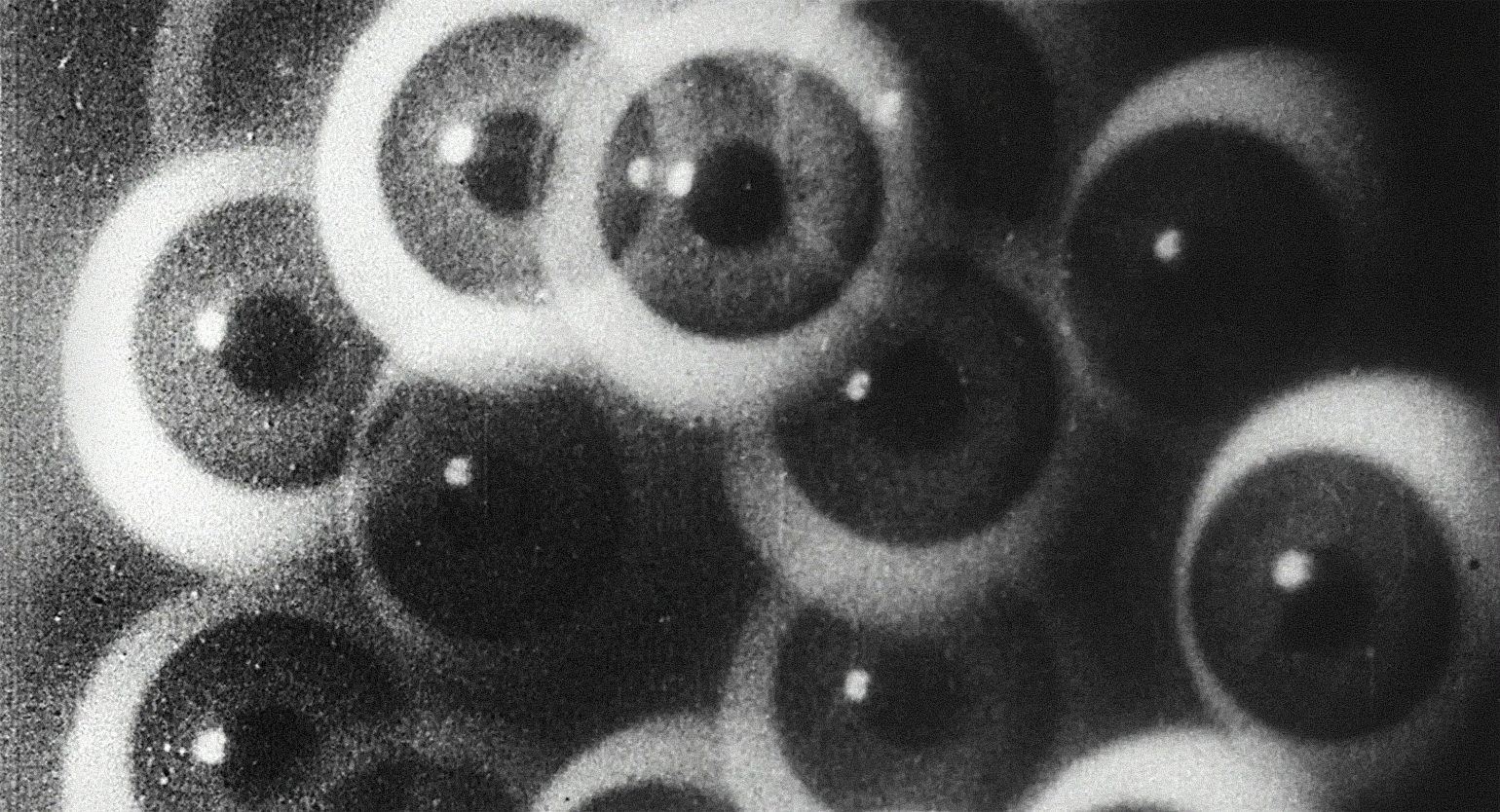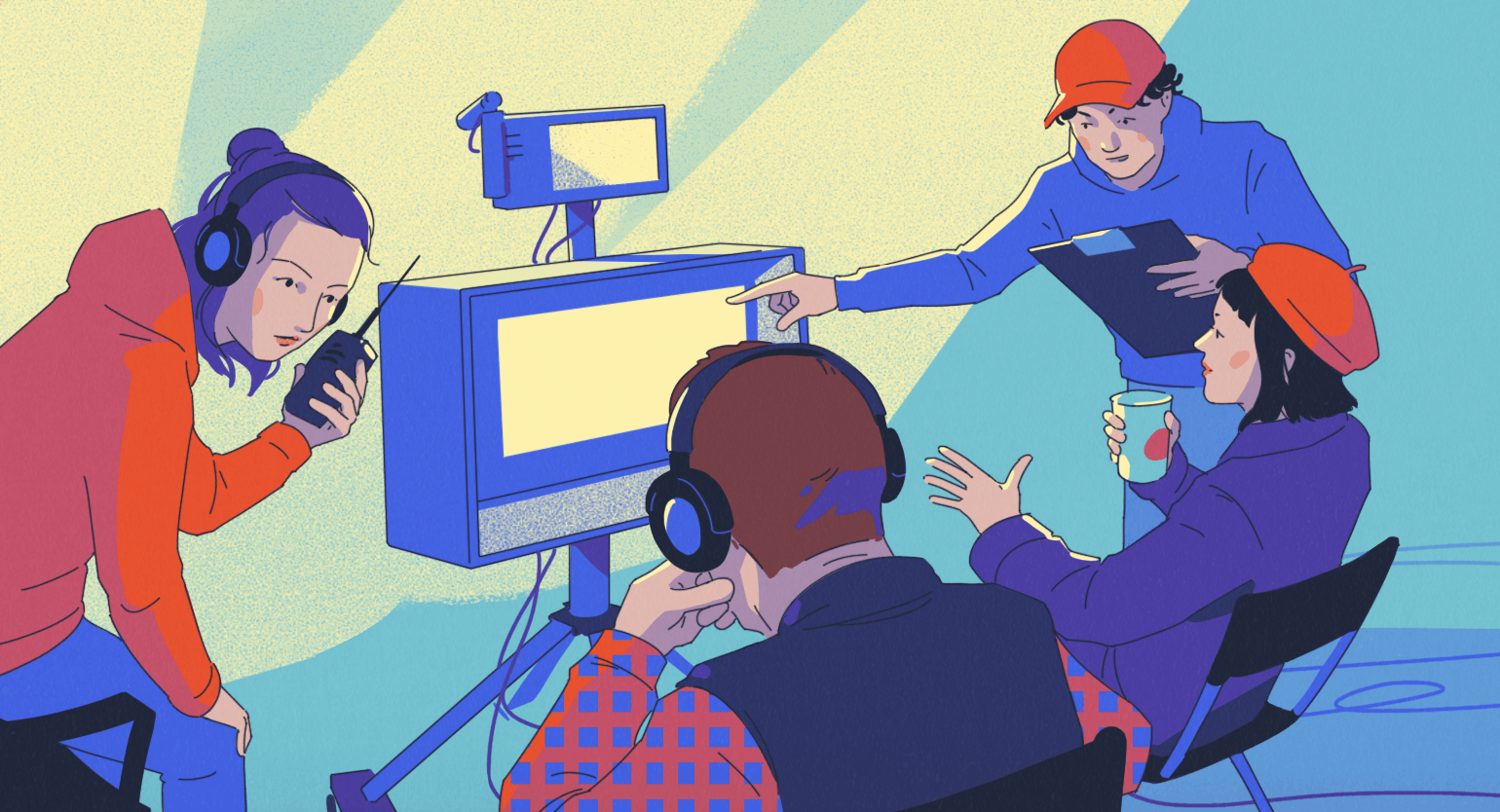Как смотреть «Зеркало» Тарковского
Взгляд на себя, мир и потустороннее — и всë в одном отражении.


4 апреля 1932 года родился режиссёр Андрей Тарковский. Легендарная фигура в истории советского кино; автор фильмов, которые входят в листы лучших киноработ мирового кинематографа. Сложно представить, как бы развивалось советское и российское кино без его влияния: для многих авторов именно «Андрей Рублёв», «Солярис», «Сталкер» стали главными источниками вдохновения. «Зеркало» же считается чуть ли не самым загадочным фильмом прошлого столетия. О нём мы и поговорим: вместе с киноведом Еленой Болотновой расставим акценты и постараемся разобраться, что же отражает «Зеркало».
В этой статье расскажем:
- почему текст и речь так важны для Тарковского;
- как Тарковский выстраивает кадр;
- что нужно знать о контексте и истории создания фильма.
Изучая общественное мнение о фильмах Тарковского, особенно о «Зеркале», можно заметить: все признают, что эта картина важна для истории кино, но всё равно оценивают её как фильм для узкого круга. Имеем ли мы право говорить, что так и задумано?
Фильмы Тарковского будто бы в принципе не рассчитаны на широкую аудиторию. В «Зеркале» нет привычного сюжета, который развивается через становление главного героя, нет какого-то конкретного первоисточника. «Зеркало» — это в каком-то смысле сам Тарковский, и многие считают этот фильм главным при определении художественного стиля режиссёра.
Текст: структура, цитаты и сценарные приёмы
Действительно, в «Зеркале» нет сюжета в привычном нам понимании. Вот Мария, мать главного героя по имени Алексей, сидит на заборе, а проходящий мимо врач затевает с ней разговор о погоде. Вот маленький Алексей наблюдает пожар в доме по соседству. Вот постаревшая Мария рассказывает уже взрослому сыну по телефону о смерти своей коллеги, с которой когда-то работала в типографии. И кажется, что всё это лишь воспоминания Алексея — поэта, который, умирая, перебирает в голове различные фрагменты своей жизни.
Перед нами мелькают обрывки воспоминаний разной степени чёткости — что-то из этого действительно было, что-то кажется лишь фантазиями, снами. Сомнения в том, что это лишь воспоминания, вызывают вкрапления исторической хроники и эпизоды, о которых Алексей будто бы не может знать. Например, эпизод о Марии, которая в панике спешит на работу в типографию: ей кажется, что она пропустила в тексте роковую ошибку, которая ставит под угрозу и её собственную судьбу, и судьбу коллег. Такая множественность формирует странную полифонию голосов, хотя голос на самом деле только один — закадровый голос Алексея.
Из-за этого возникает проблема следования, то есть развития повествования: мы привыкли, что существует определённый нарратив, объединяющий все события фильма. Даже если сцены не следуют друг за другом линейно, то всё равно начало и конец истории связаны — или эпизоды перекликаются за счёт отсылок и общего контекста. Тарковский же предлагает зрителю полностью хаотичную систему — драматургию нового вида.

Фото: Edoardo Fornaciari / Getty Images
Тарковский снял свой фильм в 1975 году, и тот вызывает ассоциации с другими модными в те времена художественными методами. Постмодернистская литература набирала ход уже в 1950-х. Сложно не проводить связь с ней: в «Зеркале» больше постдрамы с её критикой нелинейности или чего-то типа метода нарезок Берроуза, чем русской драматической традиции или наследия классической русской литературы.
Тарковский — один из главных модернистов в кинематографе, хотя и его творчество находится уже где-то на границе постмодерна. Его драматургия — не отказ от рамок и правил, а филигранное использование классических принципов драматургии, что позволяет ему быть визионером кинематографа.
Вот и в «Зеркале» мы наблюдаем мозаику из воспоминаний, снов, фантазий, исторической хроники. Дополняет это закадровое чтение стихов — их читает отец режиссёра, поэт серебряного века Арсений Тарковский.
В основу сценария легли воспоминания самого Тарковского, истории из жизни его родственников и знакомых. В какой-то момент режиссёр стал всё это записывать — так набралось 36 эпизодов. Потом их количество сократили до 28, чтобы уложиться в стандартный хронометраж.
Изначальный сценарий гласил, что «Зеркало» — история о том, как мать с сыном отправляются домой, вспоминая прошлое военных лет. Соединять все эпизоды должно было интервью с матерью Тарковского, Марией Ивановной Вишняковой. Тарковский вместе с драматургом и сценаристом Александром Мишариным задумали составить анкету, на вопросы которой будет отвечать мать, ответам же должны были соответствовать отснятые эпизоды.
Сначала эту беседу планировали снимать скрытой камерой, но потом возникли опасения, что мать не выйдет снять тайно, она поймёт задумку сына сразу. Так что от формата интервью отказались, но семейные отношения так и остались в центре истории. При этом картина стала более универсальной, выходящей за рамки личностного взаимодействия.
Сценарий претерпевал правки буквально каждый съёмочный день. Поэтому в итоге было отснято 32 эпизода — на четыре больше, чем в досъёмочной редакции сценария. А в отсутствие линейного повествования нужно было ещё придумать, как их смонтировать. Тарковский предложил сделать карточки под каждый эпизод и раскладывать по «кармашкам» (так он называл ячейки под номерами) в нужной последовательности. Перекладывали больше 20 дней, — в итоге порядок определил эпизод, ставший прологом.
Этот фрагмент мог быть в центре картины, но его сдвинули в начало, — и он служит ключом ко всему фильму. Мальчик по имени Игнат смотрит телепередачу: ведущая-логопед убеждает заикающегося юношу, что тот может говорить, погружая его в подобие транса. В итоге юноша ясно и чётко произносит: «Я могу говорить», — и фильм начинает звучать.

Проблема речи в фильме комплексная, Тарковский «озвучивает» её везде по-разному. «Я могу говорить» означает, что говорит здесь и зеркало, и герои, и режиссёр, и даже сам зритель. Голос каждого важен, и именно такая полифония запускает всю историю «Зеркала».
Голос в картине есть, но мы не видим, кто говорит. Обезличенный рассказчик разговаривает будто бы и со зрителями, и с героями в кадре. А может, он не такой уж и обезличенный? Тарковский использует разные форматы речи вне кадра: это и речь Алексея, и некий режиссёрский монолог в стихах, но всё это будто сливается в один словесный поток.
При этом речь позволяет фильму нести мысль, которую в неё вкладывает режиссёр. Пролог можно трактовать как процедуру инициации художника, когда он начинает рассказывать — то есть творить. Но обычных слов ему недостаточно.
«Слова не могут передать то, что человек чувствует, они какие-то вялые».
Если считать, что голос за кадром — это голос автора, художника, создателя, режиссёра, то он как раз и утверждает: киноязык — единственное средство, которое может отразить внутренний мир человека, и этот киноязык нужно изобретать.
В фильме будто бы есть чётко определённый главный персонаж Алексей, который даже появляется в кадре (его играет сам Тарковский), но всего на несколько минут. Чаще всего мы лишь слышим его голос.
При этом закадровый голос, образ персонажа, точка зрения будто бы не совпадают. Взрослого Алексея озвучивает Иннокентий Смоктуновский, но его самого мы в кадре не видим. Зато видим Тарковского в роли Алексея — он попадает в кадр будто случайно, как нечто инородное, выбивающееся из полотна фильма. Сам же фильм рассказывает зрителю о личных воспоминаниях режиссёра. Выходит, что зритель смотрит на историю и с точки зрения самого Тарковского, и с точки зрения персонажа Алексея. Их взгляды смешиваются, становясь единой и единственной оптикой «Зеркала».
«… Человек может исчезнуть с экрана, заменяясь чем-то совсем иным, если это необходимо для идеи, которая руководит автором в его обращении с фактом. Можно, например, сделать фильм, в котором вообще не будет героя-персонажа, а всё будет определяться „ракурсом“ человеческого взгляда на жизнь».
Андрей Тарковский для журнала «Искусство кино»
Выходит, что и никакого Алексея здесь нет: речь и изображение не совпадают. Взрослый Алексея, голос которого мы слышим, примеряет на себя разные эпизоды. В одном он маленький мальчик, в другом — умирающий человек в возрасте. Иногда кажется, что Алексей не может быть главным героем, он просто свидетель, а история разворачивается вокруг его матери, — как было в самом раннем варианте сценария. Алексей стоит в центре истории, но о его отношении к миру и о внутренних переживаниях мы узнаем из эпизодов, на ход которых он не всегда влияет, — только отражает их или преломляет.
Это особенно хорошо заметно в сценах с Натальей, бывшей женой Алексея, которая разговаривает то с кем-то невидимым, то с зеркалом. Никого, кто мог бы ответить ей, в кадре нет. Можно предположить, что это стандартная субъективная камера — приём съёмки от первого лица, — но нет, Наталья не смотрит в объектив. Только куда-то по ту сторону зеркала.


Эта деталь может указывать на ненадёжность рассказчика. «Ненадёжный рассказчик» — приём, когда герой, ведущий повествование, сообщает заведомо недостоверную информацию. И зритель или читатель не может знать об этом наверняка. Распознать такой способ изложения информации можно лишь по косвенным признакам: отсутствию альтернативных мнений, странностям в поведении других героев, несостыковкам между разными эпизодами.
Тарковский создаёт видимость личного высказывания: повествование искажается, и это интересно входит в резонанс с автобиографичностью картины. Режиссёр будто стирает любую возможность субъективной оценки, даже собственной. Если в «Солярисе» камера снимает чуть ли не из космической бездны, то здесь — из зеркального пространства сна, фантазий и иррациональности.
Кадр: композиция, взгляд и двойники
На протяжении всего фильма Тарковский по-разному работает со сновидческим подтекстом картины. Мы постоянно смотрим в зеркало, но видим будто бы своё отражение в воде: поверхность рябит и периодически искажает изображение, в особенности фоновые фигуры.
Окружение меняется до неузнаваемости, иногда даже пугает, и то, что мы видим, значительно отличается от реальности. Например, пейзаж искажает пламя от горящего дома, пугающе похожего на реальный дом, в котором жили Тарковские. При этом, каким бы странным ни был этот «отражённый» мир, он — демонстрация того странного, что скрыто внутри всех нас, попытка заглянуть в сущность человека.

В ходе работы над сценарием Тарковский фиксировал собственный опыт. Но киноязык часто радикализирует всё, что отображает. Насилие, любовь, смерть — всё это становится в кино особенно выпуклым, доведённым до предела. В «Зеркале» зритель как будто наблюдает биографию самого Тарковского, но через призму художественного повествования. А Алексей, главный герой, — своеобразный сновидческий двойник режиссёра.
Образ зеркала очень важен для психоаналитической традиции. Стадия зеркала — термин, введённый Жаком Лаканом, — связана с периодом, когда человек начинает узнавать своё отражение в зеркале. Для Лакана эта стадия определяет конфликт дуальных отношений: между Я и телом, между Воображаемым и Реальным. Способность идентифицировать, узнавать себя в зеркальном отражении — основа воображаемой целостности опыта восприятия реального.
Успешное сопоставление себя и образа в зеркале снимает это напряжение, в результате чего формируется Я. При этом на стадии зеркала возникает отчуждение субъекта от самого себя, ведь Я — результат ложного узнавания.
Сложно сказать, насколько Тарковский был связан с психоанализом, но традиционно его работы воспринимают чуть ли не как кинематографическую модель этой теории.
«Зеркало» — это не одна-единственная зеркальная поверхность, а скорее сложная многогранная призма: она отражает и преломляет множество аспектов как внутри фильма, так и вне его. Игнат, сын Алексея, живёт без отца, но отец сильно влияет на его жизнь. Жизнь самого Алексея тоже прошла как будто бы в тени ушедшего отца. И это только «внутренние» отражения — есть и «внешние», связанные с самим Тарковским и опытом зрителя.
Рефлексирует над собственным Я Тарковский через сны и воспоминания: пролог, в котором мы будто погружаемся в транс и начинаем говорить, открывает доступ в параллельную реальность. Эта реальность выстроена мозаично: мы скачем между снами и воспоминаниями. Причём это именно осколки, фрагменты мозаики, — ведь истории могут быть фрагментарны, подобно второму эпизоду с телефонным разговором, а могут быть вполне линейными, как воспоминания матери в третьем эпизоде.
Иногда герои сами рассказывают о снах, ещё сильнее проявляя сновидческую подоплёку фильма, — например, в эпизоде про вечно приходящий по ночам сон:
«Мне с удивительной постоянностью снится один и тот же сон. Он будто пытается меня заставить непременно вернуться в те до горечи дорогие места, где раньше стоял дом моего деда, в котором я родился 40 с лишним лет тому назад прямо на обеденном столе, покрытом белой крахмальной скатертью. И каждый раз, когда я хочу войти в него, мне всегда что-то мешает. Мне часто снится этот сон, я привык к этому. И когда я вижу бревенчатые стены, потемневшие от времени, и полуоткрытую дверь в темноту сеней, я уже во сне знаю, что мне это только снится и непостижимая радость омрачается ожиданием пробуждения».
Сны, иррациональные уже по своей сути, окружены у Тарковского различными ассоциациями: здесь и пейзажи, и образы родных, и объекты, выполняющие роль символов, и окружающая героев стихия. Ветер опрокидывает кувшин. Бревенчатый дом уютно прячется в густых деревьях. Зеркало напоминает водную гладь.

Это всё — попытка соприкосновения с чем-то тайным, потусторонним, несвойственным нашему миру, но всегда находящимся рядом. По ту сторону отражения. И невозможно увидеть это, если всё-таки не взглянуть в зеркало. Если не верить в то, что что-то там есть, невозможно и увидеть. Такой приём характерен для всего творчества Тарковского. Сталкер и Зона в «Сталкере», Александр и Отто в «Жертвоприношении» или герои «Ностальгии» — все они стоят по разные стороны отражающей плоскости.
Подобные отношения людей с зеркальным, чуждым, а, значит, новым всегда демонстрируются через персональный опыт. «Зеркало» — уникальный киноязык для разговора об эмоциональном опыте. Сны и фантазии порождает наше собственное сознание; даже восприятие времени — тоже результат личного опыта. Для Тарковского важно, как именно мы все видим время, как наше сознание порождает все эти фрагменты и как они собираются в единую картину. Или в пёстрый калейдоскоп.
«В „Зеркале“ мне хотелось рассказать не о себе, вовсе не о себе, а о своих чувствах, связанных с близкими людьми, о моих взаимоотношениях с ними, о вечной жалости к ним и своей несостоятельности по отношению к ним — о чувстве невосполнимого долга.».
Андрей Тарковский, «Запечатлённое время»
Тарковский работает с внутренним миром героев воспоминаний, и всю информацию мы получаем из наблюдения за ними. Цвет, музыка и фоновые звуки позволяют погрузиться в настроение героев.
Гиперцитатность, в целом свойственная искусству XX века, заметна и здесь. Вступительные титры сопровождает хоральная прелюдия Баха, которая потом звучит в одном из снов. Пейзажи Тарковского напоминают Питера Брейгеля — старшего, а текст сквозит отсылками к классике и концептуальными пересечениями, например, с идеями Михаила Бахтина и «Божественной комедией» Данте.

Доктор в исполнении Анатолия Солоницына следует за ветром по полю, но останавливается и оборачивается, — сцена, взятая из фильма «Земля» Александра Довженко. Другой эпизод, когда мать пытается продать пару серёжек, отсылает к «Персоне» Ингмара Бергмана.
Существует мнение, что всё это — продолжение личности режиссёра, особенность любого его авторского высказывания. Тарковский любит цитирование, оно в его творчестве везде. Он сам будто собирает вокруг себя разные события, обдумывая и внося их в фильмы. Это неотъемлемая часть его опыта, а значит, и опыта героев его картин.
Все эти сны, воспоминания и фрагменты мозаики собирает воедино камера Георгия Рерберга. Периодически возникает ощущение, что мы наблюдаем субъективную камеру, — как в первом эпизоде, когда Алексей говорит с матерью по телефону; но это не так, ведь камера всё-таки движется сама по себе, а не следует за конкретным персонажем.
Возможно, камера следует за кем-то невидимым: в эпизодах с Натальей создаётся ощущение, что она общается с призраком, а не со стоящим где-то за кадром бывшим супругом. Не обращается Наталья и к зрителю — во всех кадрах, когда она будто бы смотрит в камеру, взгляд всегда направлен чуть в сторону. Более того: все герои «Зеркала» не смотрят в камеру, но каждый — по-своему. Например, в камеру смотрит их отражение. А Алексей всегда или рядом с камерой, или же где-то по ту сторону.
Отказ от субъективности — частый для Тарковского приём: в «Солярисе» есть эпизод, в котором камера соотносится с движущейся машиной, а в одном эпизоде «Андрея Рублёва» есть «божественный» ракурс с пролетающей по небу камерой. Редкие кадры, на которых герои всё-таки смотрят в камеру, Тарковский называет «бергмановскими»: его герои смотрят не в камеру, а на что-то в другом мире, ведь камера — порог между нашим и зеркальным сновидческим миром.

Ближе всего к «Зеркалу» в этом смысле «Сталкер»: там Тарковский снимает будто бы из космической бесконечности, с точки зрения Зоны, здесь же — из бесконечности отражений, из зазеркалья. И только разобравшись, что именно по ту сторону камеры, можно понять, кто именно рассказывает эту историю.
Контекст: личность, вера и цензура
Производство фильма оказалось сложным и проблемным с самого начала. Идея «Зеркала» возникла в 1967 году, а в следующем году сценарий уже был готов. В «Госкино» выступили против, так что Тарковскому пришлось убрать наработки в стол. В 1972 году руководство сменилось и режиссёру дали разрешение на работу. Премьера прошла в узком кругу, и на фильм обрушился шквал критики. Лента вышла в ограниченный прокат, Каннский и Московский кинофестивали не взяли её в программу, но картиной заинтересовались иностранные компании. В 1980 году жюри кинопремии итальянской Академии кинематографии признала «Зеркало» лучшим иностранным фильмом, и в итоге картина произвела фурор во всём мире.
Возможно, эти проблемы связаны с тем, что фильм действительно сложный. «Зеркало» — высказывание авторское от и до, Тарковский обращается в нём к историям знакомых, к историческим событиям, но больше всего — к собственной жизни и ментальности.
«То ли по своей природе, то ли по инстинкту Тарковский понимал суть внутреннего опыта как „самовозведение на Голгофу“».
Николай Болдырев, «Жертвоприношение Андрея Тарковского»
Сам Тарковский называл свой фильм биографическим. Он озвучивает фразу «Я могу говорить» и позволяет говорить сам себе. Марина Тарковская, сестра режиссёра, вспоминала, что они всегда не любили обсуждать детство, да и родителей не особо спрашивали о прошлом. Так что в «Зеркале» Тарковский наконец позволяет себе вспоминать, — и фиксирует эти воспоминания именно в таком, фрагментарном виде. Они существуют как отдельные вспышки памяти, из которых невозможно собрать единое полотно. А Тарковский усложняет систему ещё больше, перемешивая их.
«Мне никто не верит, когда я говорю, что помню себя в полтора года. А я действительно помню лестницу с террасы, сиреневый куст, я катаю по перилам алюминиевую крышку от кастрюли, и такой солнечный, солнечный день…».
Андрей Тарковский, «Белый, белый день: сценарий кинофильма „Зеркало“»
Кажется, что достоверности здесь быть не может, но нет. Стихи за кадром читает отец режиссёра, а мать — центральная фигура истории — в точности повторяет образ Марии Тарковской-Вишняковой. Маргарита Терехова, конечно, играет её более чувственную и утончённую версию, какой, возможно, и была любимая мама в глазах сына: Мария Вишнякова будто несёт все тяготы судьбы внутри, не показывая даже намёка на слабость. Хотя, конечно, и сама Мария Ивановна появляется в кадре. Но на то это и кинематограф: как герой наблюдает за чужой матерью и видит свою, так и сам Тарковский показывают другую женщину, явно подразумевая собственную мать. Для него любое воспоминание о жизни всегда связано с материнством: рождением, наследием памяти.

В этом считывается некоторая религиозность: всё-таки Тарковский был человеком глубоко верующим, хотя и не воцерковлённым в привычном смысле. Даже начало фильма, отсылающее нас к первичности слова, напоминает, что мы находимся не просто в сновидческом, а в религиозно-сновидческом полотне. Тарковский косвенно затрагивает многие темы, популярные в отечественной религиозной мысли того времени. Например, его постоянное возвращение к дому, родной земле.
Мотив возвращённого рая встречается практически во всех картинах Тарковского. Так, в «Ностальгии» мы наблюдаем посмертное возвращение домой, а в «Жертвоприношении» — воссоздание родины своими руками. В «Зеркале» мы и так уже дома, но постоянно пытаемся выяснить истинность этого пространства, задавая вопросы и исследуя его.
«Человеку однажды пришло в голову, что он стар, что пора о душе подумать. В Бога он был бы рад поверить — да не может. И вот он понимает, осознаёт, что всё главное было в детстве, а всё, что с ним было потом, — суета сует. Я хочу сделать картину о том, как человек, однажды проснувшись и взглянув на себя в зеркало, вдруг испугался — он вдруг понял, что жизнь его прожита, что ничего не сделано, и если раньше перед ним была вечность, то теперь уже всё оказалось позади».
Андрей Тарковский, из книги «С Тарковским и о Тарковском» Ольги Сурковой
Вера становится для Тарковского неким фоном, на котором он творит. Она наполняет историю, помогает трактовать разные фрагменты, но не превращается в центральную проблему картины. Таким же фоном становится и историософский контекст. Исследователи выделяют сходства подхода Тарковского с поэтами и философами-символистами: так, у него много общего с Александром Добролюбовым, который, в свою очередь, многое взял от Григория Сковороды и его мистического пантеизма.
Интересно, что при своей близости к символистам цитирует-то Тарковский Пушкина — и это уже политический жест. В кадре мальчик читает письмо Пушкина к Чаадаеву о будущем страны и её религиозном опыте. Это письмо звучит в самом сердце фильма, в его середине. Так режиссёр рассказывает об опыте войны, трагедии и преодолении: как в конкретно взятой семье, так и во всей стране.
Юрий Норштейн в своих лекциях для студентов ВГИКа называет этот эпизод ключевым для понимания гуманизма Тарковского. За высоким письмом следует эпизод с событиями на Даманском: Норштейн характеризует эту часть фильмака «Хронику страшной, тупой работы войны, когда человека нет, а есть только огромное пространство, которое поглощает эту силу, эту работу, все интеллектуальные возможности». Письмо Пушкина же на контрасте показывает все ужасы войны, взывая к гуманизму и состраданию к себе и стране, своему дому.

Каждый элемент, каждая деталь в «Зеркале» формируют единую картину мира в глазах Тарковского. Это чувственно-сновидческая система, преимущественно иррациональная, но наполненная верой и состраданием.
Тарковский снял «Зеркало» о чём-то очень личном и очень публичном одновременно — о некоем потустороннем опыте, универсальном для всех, но индивидуальном для каждого. Поэтому проще говорить о том, как он это сделал, чем о «зачем» и «почему». Так что совет перед просмотром фильма может быть лишь один: не пугайтесь собственного отражения в «Зеркале».
Хотите стать востребованным специалистом с высокой зарплатой?
Откройте доступ к 5 бесплатным курсам по IT, дизайну, маркетингу и другим топовым направлениям. Определите, какая сфера вам ближе, и узнайте, как в неё попасть.
Пройти курс