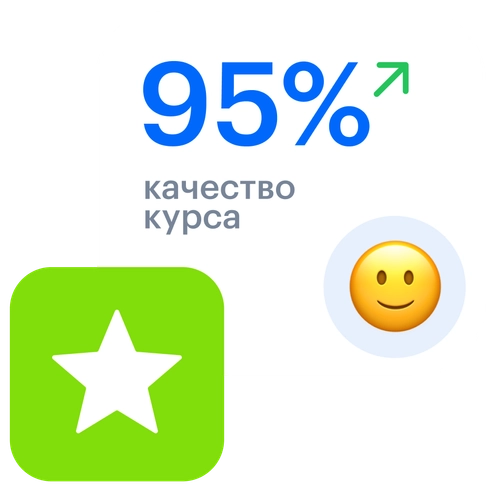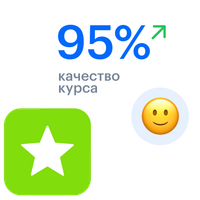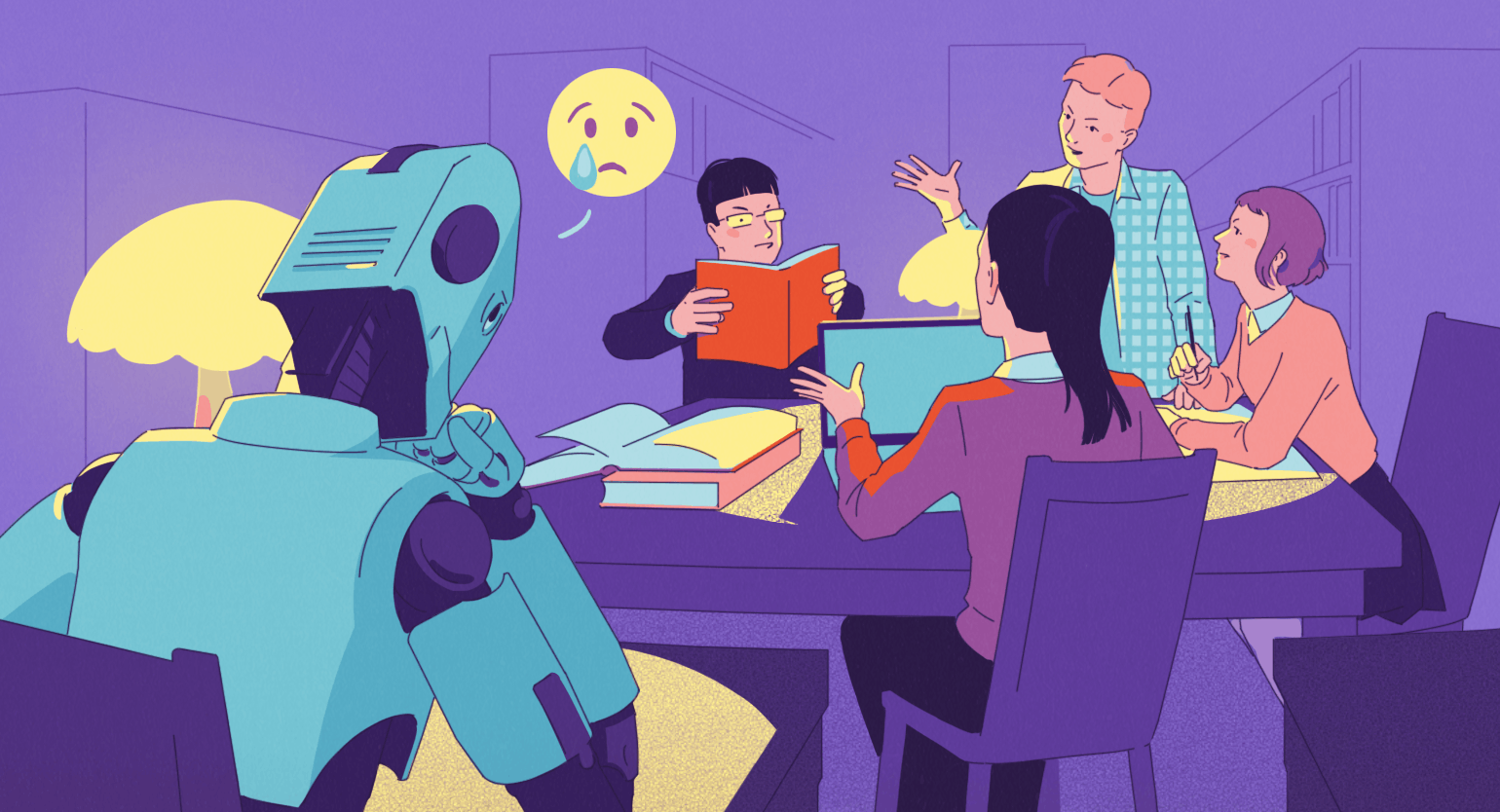Владимир Набоков: «Школа как бы позволяла мне таскать с собою за хвост дохлую крысу»
Будущий великий писатель учился в одной из самых передовых и либеральных школ своего времени, но был ею недоволен.


Мне было одиннадцать лет, когда отец решил, что домашнее образование, которое я получил и продолжал получать, может с пользой пополняться учёбой в Тенишевском училище. Созданное сравнительно недавно, училище это, одно из замечательнейших в Петербурге, было намного современнее и либеральнее обычных гимназий, в которых обучалось большинство детей. Его учебный курс, состоящий из шестнадцати «семестров» (восемь гимназических классов), примерно соответствовал последним шести годам американской школы плюс двум первым университетским. Принятый туда в январе 1911-го года, я попал в третий «семестр» или в начало восьмого класса по американской системе.
<…>
Примкнув, по собственному выбору, к великой бесклассовой русской интеллигенции, мой отец полагал правильным определить меня в школу, выделяющуюся из прочих своими демократическими принципами, безразличием к классовым, расовым и религиозным разграничениям и передовыми методами образования. За вычетом этих особенностей, Тенишевское не отличалось ничем от прочих школ мира, в какой бы точке времени или пространства они ни находились. Как во всех школах, ученики терпели некоторых учителей, а других ненавидели; как во всех школах, между мальчиками происходил постоянный обмен непристойных острот и эротических сведений. Я был превосходным спортсменом и в общем не очень страдал бы в школе, если бы дирекция только поменьше заботилась о спасении моей души.

Фото: издательство Rachard, 1903 г.
Меня обвиняли в нежелании «приобщиться к среде»; в «надменном щегольстве» (главным образом французскими и английскими выражениями, которые испещряли мои русские сочинения, что было для меня только естественным); в отказе пользоваться грязными мокрыми полотенцами в умывальной; в том, что при драках я пользовался наружными костяшками кулака, а не нижней его стороной, как принято у русских забияк. Один из наставников, плохо разбиравшийся в играх, хотя весьма одобрявший их группово-социальное значение, пристал ко мне однажды с вопросом, почему, играя в футбол, я всегда торчу в воротах, «вместо того чтобы бегать с другими ребятами». Особой причиной раздражения было ещё то, я приезжаю в школу и уезжаю из неё в автомобиле, между тем как другие мальчики, достойные маленькие демократы, пользуются трамваем или извозчиком. Один из учителей, скривившись от отвращения, внушал мне как-то, что я, на худой конец, мог бы оставлять автомобиль в двух-трёх кварталах от школы, избавив тем самым моих школьных товарищей от необходимости смотреть, как шофер «в ливрее» ломает передо мной шапку. То есть школа как бы позволяла мне таскать с собою за хвост дохлую крысу, но при условии, что я не стану совать её людям под нос.
Однако наибольшее негодование возбуждало то, что уже тогда я испытывал непреодолимое отвращение ко всяким «движениям» и союзам. Помню, в какое бешенство приходили добрейшие и благонамереннейшие из моих наставников оттого, что я решительно отказывался участвовать, в виде бесплатного добавления к школьному дню, в каких-то кружках, где избиралось «правление» и читались исторические рефераты, а впоследствии, в старших классах, происходили даже дискуссии на политические темы. Постоянное давление, имевшее целью заставить меня примкнуть к той или иной группе, моего сопротивления так и не сломило, но привело к напряжённому положению, усугублявшемуся тем, что всякий ставил мне в пример отца.
Источник: Владимир Набоков. «Память, говори» (перевод Сергея Ильина).
Контекст
Владимир Набоков, как хорошо известно по его автобиографическим произведениям, а также его братья и сёстры получили блестящее домашнее образование — это было естественно для богатой дворянской семьи. Сначала у них была череда английских бонн и гувернанток, благодаря которым Набоков, по его признанию, научился читать по-английски раньше, чем по-русски. Затем семь лет они с братом изучали французский с выписанной из швейцарской Лозанны мадемуазель (ей Набоков посвятил рассказ Mademoiselle О). А после настала эпоха домашних репетиторов по разным предметам — причём их приглашали не только для подготовки к школе, но и параллельно со школьными занятиями. Поэтому Набоков подчёркивает в приведённом отрывке, что школа, в которую его устроили в 11 лет, — Тенишевское училище — была ни в коем случае не основным его образованием, а лишь «дополняла» то, которое он получал дома.

Фото: Карл Булла
Набоков вспоминал, что, выбирая учителей, отец его «как будто следовал остроумному плану нанимать каждый раз представителя другого сословия или племени, словно бы подставляя нас всем ветрам, какие дули в российской империи». В основном это были студенты последних курсов Петербургского университета, действительно — из разных сословий и национальностей, но был среди них и простой сельский учитель, сын плотника, учивший мальчиков русской грамматике. По признанию Владимира Набокова, они с братом учителей своих откровенно изводили, и никто из них не выдерживал больше трёх лет, тем более что общаться с невыносимыми воспитанниками приходилось практически целыми днями — Набоковы нанимали репетиторов с проживанием и брали с собой в заграничные поездки.
Вероятно, школу для мальчиков Набоков-старший, сам в своё время закончивший строгую классическую гимназию, выбирал из тех же соображений, что и репетиторов — искал что-то подемократичнее. Тенишевское училище было частным учебным заведением, и на фоне гимназий, да и прочих типов школ, действительно считалось невероятно свободным по духу, к тому же передовым по методам преподавания, и если не лучшей, то как минимум одной из лучших школ по составу преподавателей. Например, русскую словесность там вёл Владимир Гиппиус, поэт, литературовед и родственник поэтессы Зинаиды Гиппиус. Физику — Григорий Григорьев, автор популярного в то время учебника, химию — Вадим Верховский, тоже автор хорошего учебника. Историю — известный историк и профессор Петербургского университета Александр Лаппо-Данилевский.
Тенишевское училище имело уникальную образовательную программу. По статусу это было коммерческое училище, поэтому там кроме общеобразовательных предметов преподавали ещё счетоводство, товароведение и прочие экономические и торговые дисциплины. При этом неофициальным уклоном у школы считался естественно-научный, как у реальных училищ (это ещё один распространённый тип школ дореволюционной России). Химией, ботаникой, физикой дети занимались в школьной лаборатории, оранжерее и даже обсерватории. Однако гуманитарные предметы тоже не были там в «загоне».
По сравнению с классическими гимназиями в программе училища не хватало, по сути, только древних языков. Хотя по тем временам в глазах передовой общественности это вряд ли считалось недостатком — в начале ХХ века ходило много разговоров о том, что мучить детей латынью совершенно ни к чему. Правда, поступить в университет, не сдав экзамен по латыни, вплоть до 1917 года было невозможно. А это значит, что ученикам Тенишевского училища, желавшим после выпуска пойти не в технические вузы, а в классические университеты, приходилось дополнительно зубрить этот предмет дома с репетиторами.

Фото: Нива. 1902. №38
В училище царила очень творческая атмосфера: ученики ставили спектакли, проводили литературные вечера, издавали журнал «Тенишевец», играли в своём оркестре, а в конце года ездили на долгие экскурсии в другие города. Вообще всячески приветствовалась внеклассовая активность — которая, как хорошо видно из воспоминаний Набокова, ужасно его раздражала. В отличие от него, у многих других учеников училище оставило исключительно светлые воспоминания.
«Преподавание здесь велось по расширенной программе и по лучшим учебникам. Но главным была атмосфера, весь дух школы, помогающий ребёнку найти себя и способствующий становлению личности. Конечно, и в них не всё было идеальным, но по сравнению с гимназиями, подчинёнными Кассо, министру просвещения, известному своей реакционностью, дети здесь росли в совершенно иных условиях, — писал в своих мемуарах Евгений Мандельштам, брат Осипа Мандельштама (оба брата были тенишевцами). — Никакой формы ни у школьников, ни у педагогов Тенишевского училища не было, если не считать неписаную традицию, неизвестно как возникшую среди школьников, носить русские сапоги».
Евгений Мандельштам вспоминал о годах в училище с восторгом, говорил о духе единства, демократичности и дружбы: «Тут соседствовали и не заносились друг перед другом сыновья начальника Генерального штаба, банкиров, владельцев магазинов и архитекторов, врачей, адвокатов и других разночинцев». Кстати, он упоминал, что если какого-то мальчика привозили в школу на автомобиле (что тогда было большой редкостью и признаком высокого статуса семьи), то следовало остановить машину вдалеке от здания школы и идти в училище пешком, «не кичась богатством и положением родителей».
Так что Владимир Набоков, похоже, просто не вписался ни в философию этого учебного заведения, ни в его дух. Может быть, он был слишком большим индивидуалистом, которому любое групповое обучение категорически не подходило. Может быть, его снобизм был несовместим с демократичной атмосферой. А может быть, ему в раннем подростковом возрасте уже не требовалась особая среда, чтобы «найти себя», поэтому всё в училище казалось лишним и раздражающим. Ведь главные увлечения всей жизни Набокова — энтомология и литература — начались ещё в дошкольный период, дома.
Кстати, дальнейшая учёба в одном из лучших учебных заведений мира — Тринити-колледже в Кембридже — тоже не оставила у Набокова ни одного тёплого воспоминания.

Фото: Public Domain
А с Тенишевским училищем у него был связан ещё и болезненный эпизод. Дело в том, что учитель литературы Гиппиус высмеял (справедливо с позиции литературного критика, но совершенно непедагогично) стихи юного Владимира, которые тот рискнул выпустить в печать за свой счёт:
«Спешу добавить, что стихи мои были попросту юношеским вздором <…>. Книгу (экземпляр которой ещё существует, увы, в „закрытом хранилище“ Ленинской библиотеки в Москве) по заслугам немедленно растерзали в своих тусклых журнальчиках те немногие рецензенты, которые заметили её. Владимир Гиппиус, мой преподаватель русского языка в Тенишевском училище, первоклассный, хоть и сложноватый поэт, перед которым я преклонялся (по-моему, он превосходил талантом свою значительно более знаменитую кузину Зинаиду Гиппиус), принёс как-то экземпляр моего сборничка в класс и к упоительной радости моих одноклассников обрушил безжалостные сарказмы (он был большой хищник, этот рыжеволосый господин) на самые романтичные мои строки. Его знаменитая кузина, встретившись на заседании Литературного фонда с моим отцом, его председателем, просила передать мне, пожалуйста, что я никогда, никогда писателем не буду».
Осип Мандельштам, по воспоминаниям его брата, при всей его любви к Гиппиусу и его урокам литературы, тоже намекал на его излишнюю немилосердность к ученикам:
«Осип относился к Гиппиусу с величайшим почтением. Твёрдо уверенный в незаурядности таланта и личности самого Владимира Васильевича, брат называл его „формовщиком душ и учителем для замечательных людей“. И тут же в скобках прибавлял: „…только таких под рукой не оказалось“», — писал Евгений Мандельштам, добавляя: «Время, правда, как будто зачеркнуло это Осино примечание: из учеников Гиппиуса и сам Осип, и В. Набоков — безусловно, выдающиеся люди и писатели».