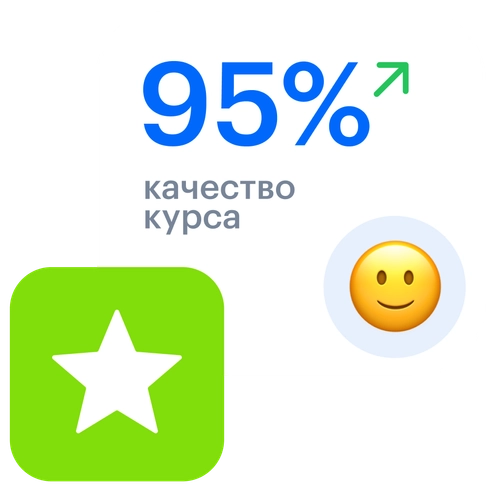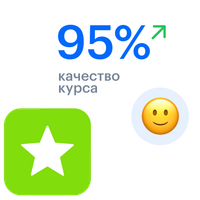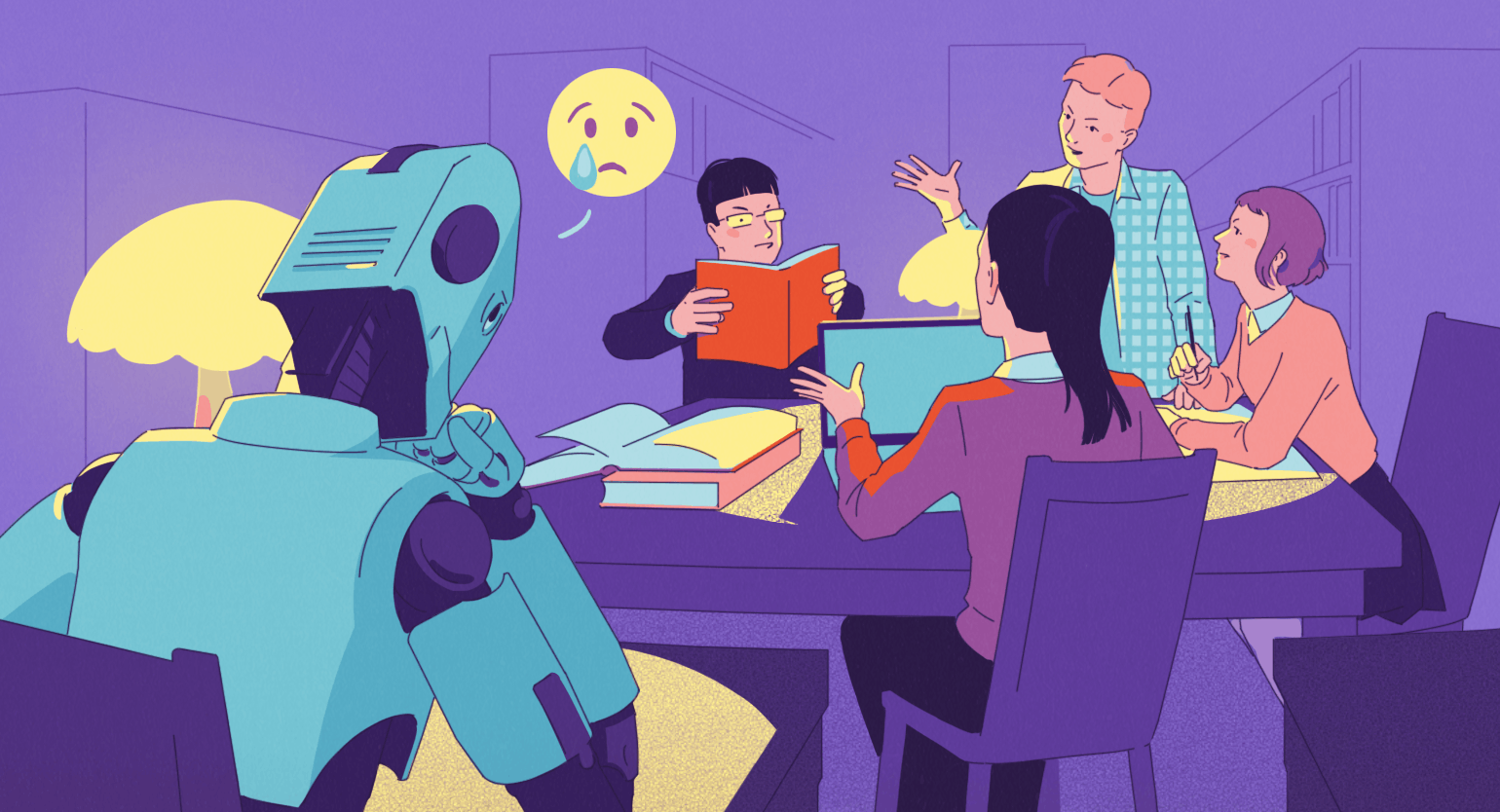«Нет никакой необходимости в объяснении, чтобы исправить неспособность понять»
Отрывок из книги «Невежественный учитель» — о том, как одно случайное открытие побудило преподавателя пересмотреть устоявшиеся педагогические подходы.


Оригинальное название: Le Maître ignorant.
Автор: Жак Рансьер.
Издательство: Музей современного искусства «Гараж».
Год выпуска: 2023.
В 1818 году с французским преподавателем литературы Жозефом Жакото произошёл случай, который изменил его жизнь. По стечению обстоятельств он был вынужден покинуть Францию и устроился профессором на полставки в университет Лувена — сейчас это город в Бельгии, а в то время принадлежал Нидерландам. И здесь возникла проблема — многие из студентов, желающих посещать лекции Жакото, не говорили по-французски, а сам профессор не владел голландским.
Желая найти точку соприкосновения, Жозеф Жакото решил провести эксперимент. Он раздал студентам экземпляры недавно опубликованного в Брюсселе двуязычного издания «Приключений Телемака» — популярного романа французского писателя Франсуа Фенелона. И предложил им выучить французский текст наизусть, используя параллельный голландский перевод. Когда студенты справились с половиной первого тома, Жакото дал им задание повторять уже изученное, дочитать остальное и подготовиться к пересказу. И наконец, после этого профессор предложил студентам написать по-французски эссе со своими размышлениями о прочитанном.
Казалось бы, после такой самостоятельной подготовки, без поддержки и объяснений учителя, без базовых уроков лексики и грамматики, невозможно сочинить что-то осмысленное. Однако, к своему удивлению, Жозеф Жакото обнаружил, что его студенты справились с заданием не хуже многих франкоязычных. Этот опыт перевернул его представления о традиционной педагогике, основанной на объяснениях и передаче знаний от учителя к ученику. Если ученик сам, на своём опыте, способен выявить и усвоить правила склонения и спряжения, принципы составления предложений, пользуясь лишь текстом и его переводом, то нужны ли ему вообще объяснения педагога?
В результате Жозеф Жакото отказался от привычных методов преподавания и стал развивать собственный метод «интеллектуальной эмансипации». Его ключевыми принципами стали равенство педагога и ученика, а также убеждение, что любой человек способен самостоятельно научиться чему угодно, если поверит в свои силы.
Об этой истории — книга французского философа Жака Рансьера «Невежественный учитель», опубликованная Музеем современного искусства «Гараж». С разрешения издательства публикуем отрывок, в котором рассказывается о сути метода Жакото и о том, как стремление педагогов всё объяснять вредит самостоятельной интеллектуальной работе учеников.
Система объяснений
«Итак, внезапное озарение вдруг высветило в уме Жозефа Жакото нечто слепо принимаемое любой системой обучения за само собой разумеющийся факт: необходимость объяснений. В самом деле, что может быть очевиднее? Каждый по-настоящему знает только то, что понял. А чтобы он понял, нужно, чтобы ему дали объяснение, чтобы слово учителя прервало немоту подлежащего изучению материала.

Эта логика, однако, не лишена некоторых тёмных мест. Вот, например, книга в руках ученика. Эта книга составлена из совокупности рассуждений, призванных объяснить ученику какой-то материал. А вот учитель, который берёт слово, чтобы объяснить книгу. Требуется совокупность рассуждений, чтобы объяснить совокупность рассуждений, составляющих эту книгу. Но почему книге необходима подобная помощь? Вместо того чтобы оплачивать объяснение, не может ли отец семейства просто дать своему сыну книгу, а тот — напрямую понять содержащиеся в ней рассуждения? И если ребёнок их не понимает, почему он скорее поймёт рассуждения, объясняющие ему то, что он не понял? Они что, другой природы? И не понадобится ли в этом случае объяснять ещё и то, как следует, в свою очередь, понимать их?
Таким образом, логика объяснения включает в себя принцип бесконечной регрессии: нет доводов к тому, чтобы прекратить удвоение доводов. Останавливает регрессию и придаёт системе её основательность просто-напросто то, что объясняющий оказывается единственным судьёй, в какой точке объяснение само достаточно объяснено. Только он судит относительно этого самого по себе головокружительного вопроса: понял ли ученик рассуждение, которое учит его понимать рассуждения? Именно здесь учитель заменяет отца семейства: как тот сможет быть уверен, что ребёнок понял рассуждения в книге? То, чего не хватает отцу семейства, то, чего всегда будет не хватать троице, которую он составляет вместе с ребёнком и книгой, это именно особое искусство объяснителя: искусство дистанции. Секрет учителя состоит в умении распознать дистанцию между материалом обучения и подлежащим обучению субъектом, дистанцию также между выучить и понять. И именно объяснитель устанавливает и упраздняет дистанцию, он разворачивает и устраняет её в недрах своей речи.
Это привилегированное положение речи отменяет бесконечную регрессию лишь для того, чтобы установить парадоксальную иерархию. Действительно, в системе объяснения требуется, вообще говоря, устное объяснение, чтобы объяснить объяснение письменное. Тем самым предполагается, что рассуждения становятся более ясными, лучше отпечатываются в уме ученика, когда их передаёт рассеивающаяся через мгновение речь учителя, а не книга, в которую они навсегда вписаны нестираемыми буквами. Как понимать эту парадоксальную привилегию речи перед письмом, слуха перед зрением? Каково, стало быть, соотношение между властью речи и властью учителя?
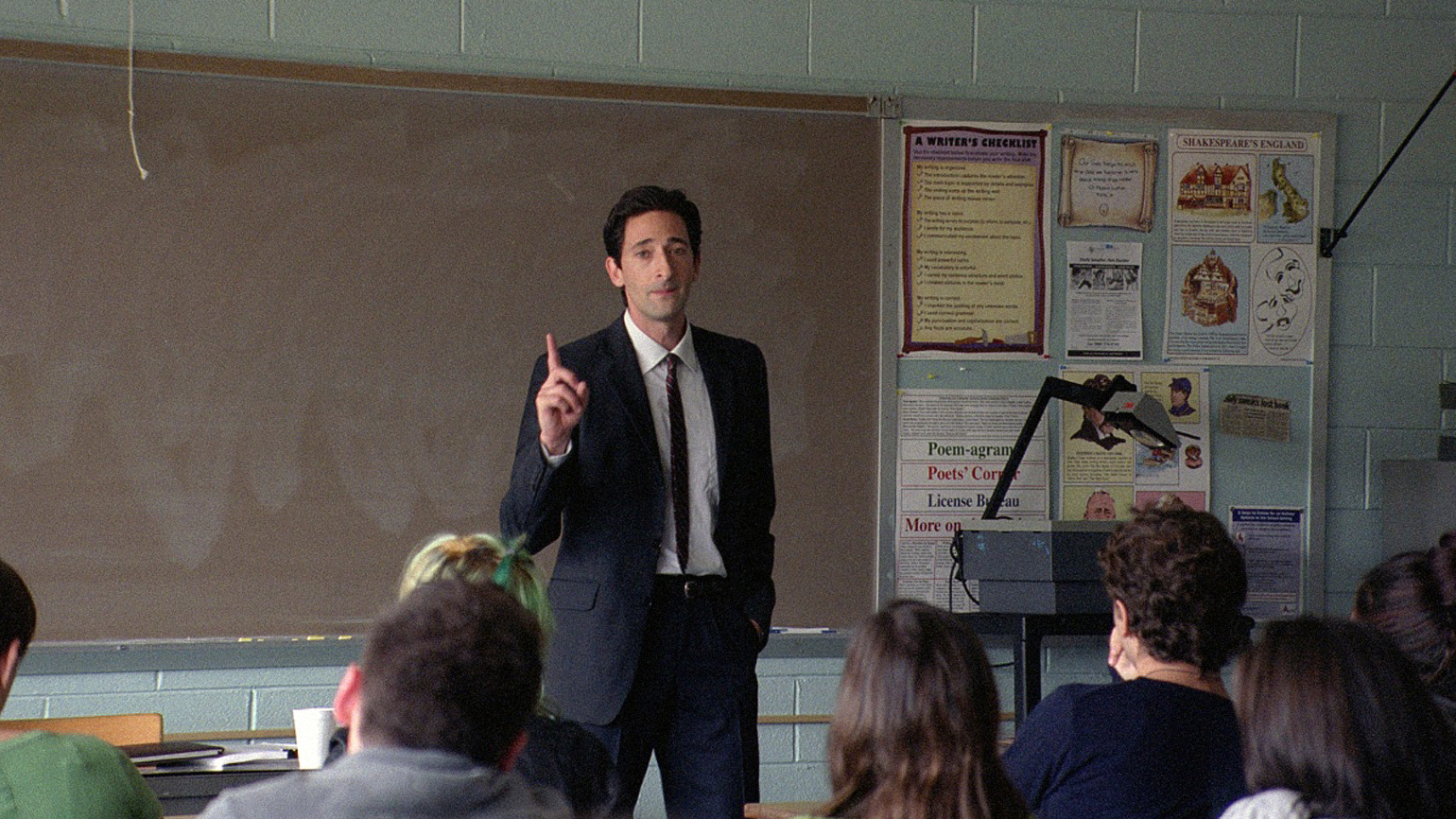
На этот парадокс тут же накладывается другой: речи, которые ребёнок выучивает лучше всего, в смысл которых он лучше всего проникает, которые он легче всего присваивает для своего личного пользования, — это речи, которые он учит без объяснений учителя, ещё до любого учителя и его объяснений. При неравенстве в отдаче от интеллектуального ученичества разного вида лучше всего детишки выучивают то, что им не пытается объяснить ни один учитель: родной язык. На нём говорят с ними и вокруг них. Они слышат и сохраняют его в памяти, подражают и повторяют, ошибаются и поправляются, случайно преуспевают и методично начинают заново, и в слишком нежном возрасте, чтобы объяснители могли взяться за их обучение, почти все — каким бы ни был их пол, социальные условия и цвет кожи — оказываются способны понимать язык своих родителей и разговаривать на нём.
И вот тут-то ребёнок, научившийся говорить благодаря собственному уму и учителям, которые язык ему не объясняли, приступает, собственно говоря, к обучению. Всё происходит так, будто он больше не в состоянии учиться при помощи служившего ему доселе интеллекта, будто самостоятельное соотнесение ученичества с проверкой ему отныне недоступно. Между одним и другим впредь пролегает густая тень. Речь идёт о том, чтобы понять, и уже само это слово набрасывает на весь процесс свою завесу: понять — это то, что ребёнок не может сделать без объяснений учителя, а в дальнейшем и стольких учителей, сколько дисциплин в определённой последовательности ему будет задано понять. Ко всему прочему добавляется то странное обстоятельство, что эти объяснения, с тех пор как началась эра прогресса, не перестают совершенствоваться, дабы лучше объяснить, лучше заставить понять, лучше научить учиться, притом что совершенно невозможно измерить соответствующее усовершенствование в вышеозначенном понимании. Так начинает подниматься и будет впредь лишь усиливаться скорбный ропот, ропот о непрерывном понижении эффективности объяснительной системы, что, конечно же, делает необходимым новое усовершенствование, дабы сделать объяснения более доступными для понимания теми, кто их не понимает…
Настигшее Жозефа Жакото откровение гласило: нужно перевернуть логику объяснительной системы. Нет никакой необходимости в объяснении, чтобы исправить неспособность понять. Напротив, именно эта выдуманная неспособность и структурирует объяснительную концепцию мира. Именно объясняющий нуждается в неспособном, а не наоборот, именно он определяет неспособного в таком качестве. Объяснить что-то кому-то — это прежде всего показать ему, что тот не может понять это сам. Прежде чем быть актом педагога, объяснение является педагогическим мифом, параболой об обществе, разделённом на умы учёные и умы невежественные, умы зрелые и недоразвитые, способные и неспособные, мудрые и глупые.
Свойственный объяснителю выверт состоит в двойственности вступительного жеста. С одной стороны, объяснитель провозглашает абсолютное начало: только теперь и начнётся акт обучения. С другой — набрасывает на всё, что предстоит выучить, завесу неведения, которую сам же берётся приподнять. До того как он пришёл, маленький человек действовал, разгадывая загадки, наугад, вслепую. Теперь он начнёт учиться. Он слушал слова и повторял их. Теперь речь пойдёт о чтении, и он не услышит слов, если не поймёт слогов; слогов, если не поймёт букв, услышать которые не помогут ни книги, ни родители — только речь учителя.

Педагогический миф, скажем мы, делит общество надвое. Точнее, надо сказать, что он делит надвое интеллект. Есть, заявляет он, низший интеллект и интеллект высший. Первый наугад регистрирует восприятия, сохраняет их в памяти, истолковывает и опытным путём повторяет в узком кругу привычек и потребностей. Таков интеллект маленького ребёнка и простолюдина. Второй познаёт вещи, пользуясь доводами разума, действует методично, переходя от простого к сложному, от части к целому. Именно он позволяет учителю передавать свои познания, приспосабливая их к интеллектуальным способностям ученика, и проверять, правильно ли ученик понял то, что выучил. Таков принцип объяснения. Таким для Жозефа Жакото будет впредь принцип оболванивания.
Разберёмся, что это значит, и для этого отметём известные образы. Оболванивает не старый тупой учитель, который забивает голову учеников чепухой неудобоваримых знаний, и не зловредное существо, практикующее двойную истину, чтобы обеспечить свою власть и социальный порядок. Напротив, оболванивающий обязан своей эффективностью учёности, просвещённости и добросовестности. Чем он учёнее, тем более очевидной представляется ему дистанция от его знания до неведения невежд. Чем он просвещённее, тем более очевидной кажется ему разница между действиями наугад, вслепую и методическими поисками; тем сильнее он постарается заменить ум буквой, ясность объяснений — авторитетом книги. Первым делом, скажет он, нужно, чтобы ученик понял, а для этого ему нужно объяснять всё лучше и лучше. Этим и озабочен просвещённый педагог: понимает ли малыш? Нет, не понимает. Я отыщу новые способы ему объяснить, более строгие по своим принципам, более привлекательные по форме; и я проверю, что он таки понял.
Благородная озабоченность. К несчастью, именно от этого коротенького слова, этого призыва просвещённых — понять — и идёт всё зло. Именно оно останавливает движение разума, уничтожает его доверие к самому себе, сбивает его с собственного пути, расщепляя надвое мир умственных способностей, устанавливая разрыв между действующим наугад животным и маленьким образованным господином, между здравым смыслом и наукой. Как только произнесён этот призыв к двойственности, всякое усовершенствование способа заставить понять, эта главная забота методистов и прогрессистов, оказывается прогрессом в оболванивании. Ребёнок, который запинается под угрозой ударов, слушается указку, и на этом всё: он приложит свой интеллект к чему-то другому. Но получивший объяснение малыш пустит свой интеллект на работу скорби: понимать означает понимать, что ты не поймёшь, если тебе не объяснят. Впредь он подчиняется уже не указке, а иерархии мира умственных способностей. Что касается остального, он спокоен, как и другой: если решение проблемы слишком сложно, чтобы его искать, у него хватит ума широко открыть на это глаза.

Учитель бдителен и терпелив. Он увидит, что малыш больше за ним не следует, и вернёт его на путь истинный, объяснив заново. Тем самым малыш обретёт новую разумность, разумность объяснений учителя. Позже, в свой черёд, он тоже сможет объяснять. Он для этого экипирован. Но он будет совершенствовать свои навыки: будет прогрессивен.
Случай и воля
Так обстоят дела в мире получивших объяснение объяснителей. Так же они должны были бы обстоять и для профессора Жакото, если бы случаю не было угодно поставить его перед фактом. А Жозеф Жакото полагал, что любое рассуждение должно основываться на фактах и им подчиняться. Мы не хотим сказать, что он был материалистом. Напротив — как Декарт, который в качестве доказательства движения принимался шагать, или как его современник, ярый роялист и истовый католик Мен де Биран, — он полагал, что для деятельного и осознающего свои действия ума доступные ему факты более неоспоримы, чем любая материальная данность. И речь шла именно об этом: это факт, что его студенты научились говорить и писать по-французски, не прибегая за помощью к его объяснениям. Он не передал им ничего из своей науки, ничего не рассказал о корнях и флексиях французского языка. Он даже не повёл себя на манер тех педагогов-реформаторов, которые, как воспитатель из „Эмиля“, сбивают своих учеников с толку, дабы лучше ими руководить, и хитроумно расставляют на их пути препятствия, которые нужно научиться самостоятельно преодолевать. Он оставил их один на один с текстом Фенелона, переводом (даже не подстрочным, как в учебных изданиях) и их волей выучить французский. Он только дал указание пересечь дебри, сам не зная, как из них выйти. Необходимость вынудила его оставить целиком вне игры свой интеллект, посреднический интеллект учителя, связывающий запечатлённый в письменных словах интеллект с интеллектом новичка. И заодно он ликвидировал воображаемую дистанцию, являющуюся принципом педагогического оболванивания.
В силу обстоятельств всё разыгралось между интеллектом Фенелона, который захотел определённым образом воспользоваться французским языком, интеллектом переводчика, который захотел найти этому голландский эквивалент, и интеллектом учеников, которые захотели выучить французский язык. И оказалось, что никакого другого интеллекта не требуется. Не думая о том, Жакото заставил их открыть то, что вместе с ними открыл и сам: все фразы, а следовательно и все производящие их умы, не различаются по своей природе.
Понять — всегда всего лишь перевести, то есть представить эквивалент текста, но не его основание. За письменной страницей ничего не стоит, никакого двойного дна, которое требовало бы работы другого ума, интеллекта того, кто мог бы объяснить; никакого языка учителя, языка того языка, чьи слова и фразы были бы наделены возможностью высказать основание слов и фраз текста. Фламандские студенты предоставили тому доказательство: для того чтобы рассуждать о „Телемаке“, у них не было ничего, кроме слов „Телемака“. Таким образом, достаточно фраз Фенелона, чтобы понять фразы Фенелона и высказать, чтó ты в них понял.
Выучить и понять — два способа выразить один и тот же акт перевода. До текстов нет ничего, кроме воли выразить себя, иначе говоря — перевести. Если студенты поняли язык, заучивая Фенелона, то не просто путём этакой гимнастики, сравнивая страницу слева со страницей справа. В счёт идёт не способность сменить колонку, а способность высказать то, о чём ты думаешь, словами других. Если они научились этому у Фенелона, то потому, что акт Фенелона-писателя сам по себе был актом переводчика: чтобы перевести политический урок в легендарное повествование, Фенелон переложил на французский язык своего века греческий язык Гомера, латинский Вергилия и — когда учёный, когда наивный — язык сотни других текстов, от детских сказок до учёной истории. Он приложил к этому двойному переводу те же самые умственные способности, которые, в свою очередь, использовали студенты, чтобы рассказать с помощью фраз из его книги о том, что они о ней думали.
Но вместе с тем выучить французский язык по „Телемаку“ им позволили те же самые умственные способности, благодаря которым они когда-то научились родной речи: наблюдая и запоминая, повторяя и проверяя, соотнося то, что они стремились узнать, с тем, что они уже знали, повторяя и обдумывая то, что они уже делали. Студенты вели себя так, как не должны были себя вести — они вели себя так, как ведут себя дети, вслепую, наугад.
И тогда вставал вопрос: не стоило ли перевернуть принятый строй интеллектуальных ценностей? Не была ли эта опозоренная методика догадки подлинным движением интеллекта, который овладевает присущими ему возможностями? Не крылась ли за её осуждением прежде всего воля рассечь мир интеллекта надвое? Методисты противопоставляют дурную методику случайности разумному рассуждению. Но они заранее задаются тем, что хотят доказать. Они полагают, что имеют дело с маленьким зверьком, когда он, натыкаясь на вещи, исследует мир, который ещё не способен увидеть и который эти вещи как раз и научат его различать. Но маленький человечек — прежде всего существо, наделённое речью. Ребёнок, повторяющий услышанные слова, и „потерявшийся“ в „Телемаке“ фламандский студент ведут себя не абы как. Все их усилия, все их расследования были обусловлены тем, что им была адресована человеческая речь и они захотели распознать её и на неё ответить — не по-ученически и не по-учёному, а по-человечески, как отвечаешь тому, кто с тобой разговаривает, а не испытывает: под знаком равенства.

Факты свидетельствовали о том, что они выучились самостоятельно, без объяснений учителя. Но то, что имело место единожды, возможно всегда. Это открытие могло в конечном счёте опрокинуть все принципы профессора Жакото. Но как человек Жакото был скорее готов признать разнообразие того, чего можно ожидать от человека. Его отец был мясником, прежде чем начал вести счета своего дедушки, плотника, который послал своего внука в коллеж. Сам он был профессором риторики, когда в 1792 году откликнулся на призыв к оружию. Голоса его сотоварищей сделали его капитаном артиллерии, и он проявил себя как незаурядный артиллерист.
В 1793 году в Бюро пороха этот латинист стал инструктором по химии для ускоренного обучения рабочих, рассылаемых во все уголки страны, дабы применять на практике открытия Фуркруа. У того же Фуркруа он познакомился с Вокленом; будучи сыном простого крестьянина, тот выучился на химика тайком от своего начальника. В Политехнической школе он видел молодых людей, отобранных туда импровизированными комиссиями на основе двойного критерия — живости ума и патриотизма. Он видел, как они становятся отличными математиками — не столько из-за математических объяснений, которые давали им Монж или Лагранж, сколько из-за самостоятельных занятий этим предметом. Он сам, очевидно, воспользовался своими административными функциями, чтобы овладеть навыками математика, обязанности которого он позже исполнял в университете Дижона. Точно так же он добавил к древним языкам, которым обучал студентов, иврит и составил „Очерк древнееврейской грамматики“. Он, бог знает почему, полагал, что у этого языка есть будущее. И наконец, вопреки своей воле, но проявив изрядную твёрдость, Жакото добился того, чтобы его признали в качестве народного представителя.
Короче говоря, он знал, чтó в обстоятельствах, когда ситуация не оставляет времени на развёрнутые объяснения, способны извлечь из неизведанных способностей индивидуальная воля вкупе с опасностью для родины. Он пришёл к мысли, что такое исключительное положение, задаваемое потребностями нации, не отличается по своему принципу от той неотложности, что направляет исследование ребёнком мира, или той, что толкает на их особый путь учёных или изобретателей.
Через опыт ребёнка, учёного и революционера методика случайности, успешно освоенная фламандскими студентами, открыла свой второй секрет. Эта методика равенства была прежде всего методикой воли. Если ты этого хочешь, учиться можно и в одиночку, без объяснений учителя, напряжением собственного желания или принудительностью ситуации».
Больше интересного про образование ― в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь!