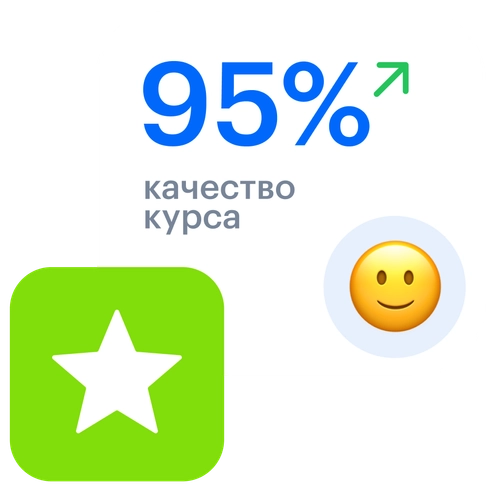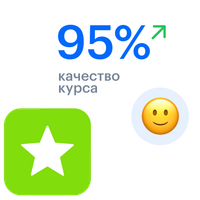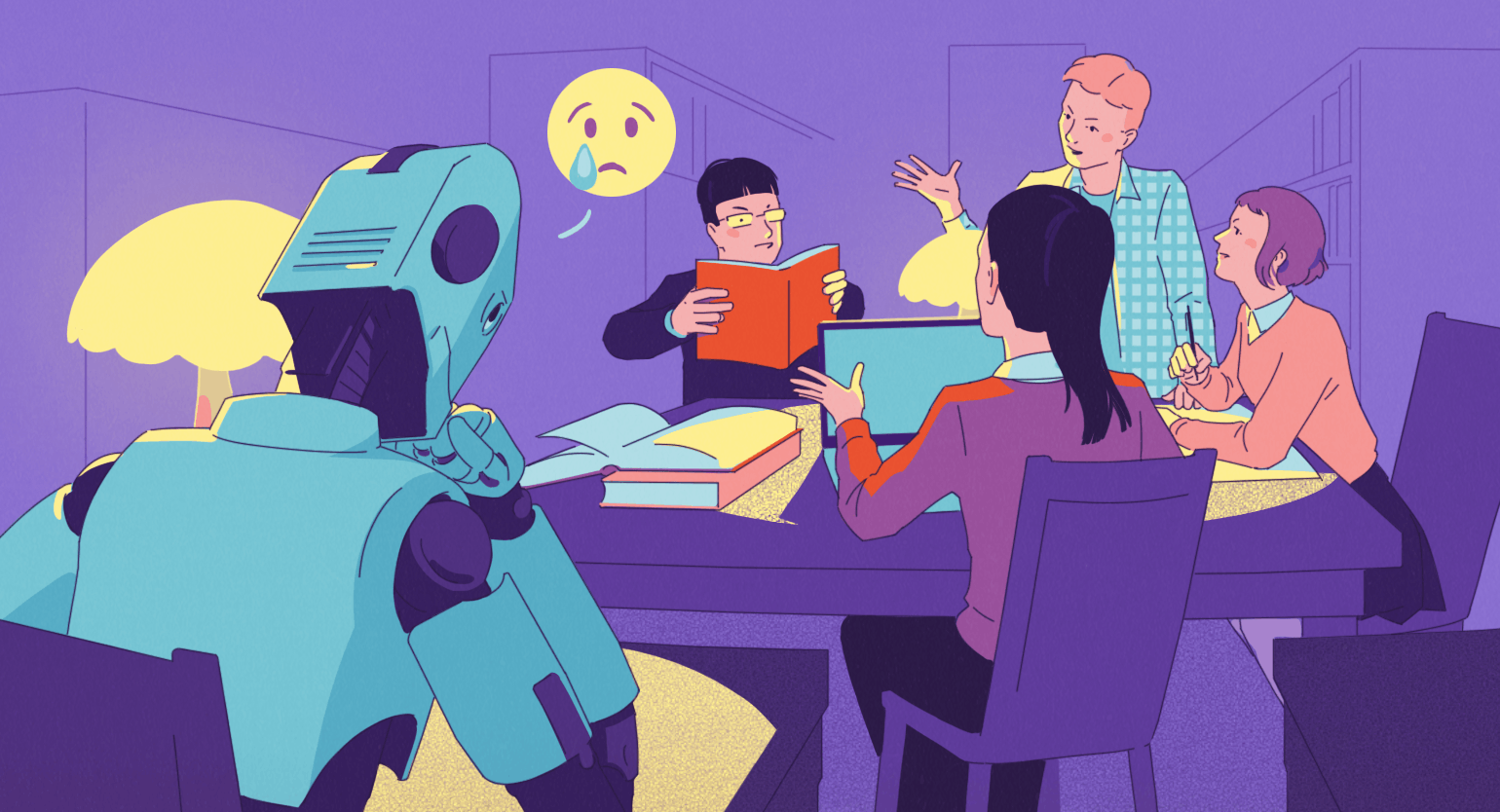Былое: как будущий знаменитый писатель получил кол за сочинение и стал второгодником
Но это оказалось даже к лучшему. История из воспоминаний Ивана Шмелёва о двух его гимназических учителях словесности.


Должно быть, за постоянную болтовню прозвали меня в первом классе гимназии — «римский оратор», — и кличка эта держалась долго. В бальниках то и дело отмечалось: «Оставлен на полчаса за постоянные разговоры на уроках».
Это был, так сказать, дописьменный век истории моего писательства. За ним вскоре пришёл и «письменный».
В третьем, кажется, классе я увлёкся романами Жюля Верна и написал — длинное и в стихах! — путешествие наших учителей на Луну, на воздушном шаре, сделанном из необъятных штанов нашего латиниста «Бегемота». «Поэма» моя имела большой успех, читали её даже и восьмиклассники, и она наконец попала в лапы к инспектору. Помню пустынный зал, иконостас у окон, в углу налево, — 6-я моя гимназия! — благословляющего детей Спасителя, — и высокий, сухой Баталии, с рыжими бакенбардами, трясёт над моей стриженой головой тонким костлявым пальцем с отточенным остро ногтем, и говорит сквозь зубы — ну прямо цедит! — ужасным, свистящим голосом, втягивая носом воздух, — как самый холодный англичанин:
— И ссто-с такое… и сс… таких лет, и сс… так неуваззы-тельно отзываесса, сс… так пренебреззытельно о сстарссых… о наставниках, об учителях… нашего посстенного Михаила Сергеевича, сына такого нашего великого историка позво-ляес себе называть… Мартысской!.. По решению педагогического совета…
Гонорар за эту «поэму» я получил высокий — на шесть часов «на воскресенье», на первый раз.
Долго рассказывать о первых моих шагах. Расцвёл я пышно на сочинениях. С пятого класса я до того развился, что к описанию храма Христа Спасителя как-то приплёл… Надсона! Помнится, я хотел выразить чувство душевного подъёма, которое охватывает тебя, когда стоишь под глубокими сводами, где парит Саваоф, «как в небе», — и вспоминаются ободряющие слова нашего славного поэта и печальника Надсона:
Друг мой, брат мой… усталый, страдающий брат,
Кто б ты ни был — не падай душой:
Пусть неправда и зло полновластно царят
Над омытой слезами землёй.
Баталии вызвал меня под кафедру и, потрясая тетрадкой, начал пилить со свистом:
— Ссто-с такое?! Напрасно сситаете книзки, не вклюсённые в усенисескую библиотеку! У нас есть Пускин, Лермонтов, Дерзавин… но никакого вашего Надсона… нет! Сто такой и кто такой… На-дсон. Вам дана тема о храме Христа Спасителя, по плану… а вы приводите ни к селу ни к городу какого-то «страдающего брата»… какие-то вздорные стихи! Было бы на четвёрку, но я вам ставлю три с минусом. И зачем только тут какой-то «философ»… с в на конце! — «филосов-в Смальс»! Слово «философ» не умеете написать, пишете через «в», а в философию пускаетесь? И во-вторых, был Смайс, а не Смальс, что значит — свиное сало! И никакого отношения он, как и ваш Надсон, — он говорил, ударяя на первый слог, — ко храму Христа Спасителя не имели! Три с минусом! Ступайте и задумайтесь.
Я взял тетрадку и попробовал отстоять своё:
— Но это, Николай Иваныч… тут лирическое отступление у меня, как у Гоголя, например?
Николай Иваныч потянул строго носом, отчего его рыжие усы поднялись и показались зубки, а зеленоватые и холодные глаза так уставились на меня, с таким выражением усмешки и даже холодного презрения, что во мне всё похолодело. Все мы знали, что это — его улыбка: так улыбается лисица, перегрызая горлышко петушку.
— Ах, во-от вы ка-ак… Гоголь!., или, может быть, гоголь-моголь? Во-от как… — и опять страшно потянул носом. — Дайте сюда тетрадку…
Он перечеркнул три с минусом и нанёс сокрушительный удар — колом! Я получил кол и — оскорбление. С тех пор я возненавидел и Надсона, и философию. Этот кол испортил мне пересадку и средний бал, и меня не допустили к экзаменам: я остался на второй год. Но всё это было к лучшему.

Я попал к другому словеснику, к незабвенному Фёдору Владимировичу Цветаеву. И получил у него свободу: пиши, как хочешь!
И я записал ретиво, — «про природу». Писать классные сочинения на поэтические темы, например, — «Утро в лесу», «Русская зима», «Осень по Пушкину», «Рыбная ловля», «Гроза в лесу»… — было одно блаженство. Это было совсем не то, что любил задавать Баталии: не «Труд и любовь к ближнему как основы нравственного совершенствования», не «Чем замечательно послание Ломоносова к Шувалову „О пользе стекла“» и не «Чем отличаются союзы от наречий». Плотный, медлительный, как будто полусонный, говоривший чуть-чуть на «о», посмеивающийся чуть глазом, благодушно, Фёдор Владимирович любил «слово»: так, мимоходом будто, с ленцою русской, возьмёт и прочтёт из Пушкина… Господи, да какой же Пушкин! Даже Данилка, прозванный Сатаной, и тот проникнется чувством.
Он ставил мне за «рассказы» пятёрки с тремя иногда крестами, — такие жирные! — и как-то, тыча мне пальцем в голову, словно вбивал в мозги, торжественно изрёк:
— Вот что, муж-чи-на… — а некоторые судари пишут «муш-чи-на», как, например, зрелый му-жи-чи-на Шкробов! — у тебя есть что-то… некая, как говорится, «шишка». Притчу о талантах… пом-ни!
С ним, единственным из наставников, поменялись мы на прощанье карточками. Хоронили его — я плакал. И до сего дня — он в сердце.
Источник: И. С. Шмелёв. «Как я стал писателем. Воспоминания».
Контекст
Автор этих строк — Иван Сергеевич Шмелёв (1873–1950), о чьём таланте Александр Куприн сказал, что он — последний и единственный из русских писателей, у которого можно учиться богатству, мощи и свободе русского языка. В советские годы творчество Шмелёва было предано забвению, но с 1990-х его стали открывать заново, и его «Лето Господне», «Солнце мёртвых», «Старый Валаам» снова обрели известность.
С главной любовью и призванием своей жизни — литературой — Шмелёв познакомился, учась в гимназии. Дело в том, что происходил он из не слишком образованной и небогатой купеческой семьи, в его дошкольном домашнем детстве были всего три книги — Евангелие, азбука и атлас по естественной истории (так называлось естествознание). «С поступлением в гимназию мне стала доступной книга», — признавался Шмелёв. Сначала он зачитывался Жюлем Верном и Майном Ридом, потом открыл для себя Пушкина и Толстого и был ошеломлён их глубиной: «Помню, закончив „Войну и мир“, — это было в шестом классе, я впервые почувствовал величие, могучесть и какое-то божественное, что заключено в творениях писателей. Писатель — это величайшее, что есть на земле и в людях. Перед словом „писатель“ я благоговел».
В гимназии же он начал и собственные писательские попытки. Правда, сначала, в младших классах, талант его проявлялся только устно — юный Ваня так чудесно умел рассказывать истории, что друзья вечно просили его повторить что-нибудь «на бис». Поэтому у учителей он заслужил славу большого болтуна, за что не раз бывал наказан. А когда начал писать, прославился на всю гимназию ещё больше — своей юмористической поэмой о путешествии учителей на Луну на воздушном шаре, сделанном из необъятных штанов преподавателя латыни.

Фото: Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО
Каким бы комичным ни был этот случай, а писательством юный Шмелёв увлёкся тогда вполне серьёзно. Настолько, что в какой-то момент чуть не бросил гимназию. Вот что он вспоминал об этом в автобиографии:
«Я решил посвятить себя литературе, закинул учебники и принялся за самообразование. Ночью писал, а днём валялся на кровати, сказавшись больным, и читал до одури. Это было какое-то внежизненное существование. Я писал роман из сибирской жизни, стихи на тридцатилетие освобождения крестьян, драму, в которой он и она помирали от чахотки. Так продолжалось недели две. Меня грозили выкинуть из гимназии за манкировки. Гимназия мне опротивела. Я заявил, что буду учиться сам, один.
И всё же пришлось подчиниться. И я бросил своё писание. Только в восьмом классе опять отрыгнулось. Я написал рассказ из народной жизни „У мельницы“, и он был напечатан в толстом журнале „Русское обозрение“».
Учился Иван Шмелёв сначала очень недолго в 1-й московской гимназии, возле храма Христа Спасителя. Она была престижной, с конкурсом 400 человек на 60 мест. Ваня поступил туда в 11 лет и не прижился. Эта школа стала его кошмаром и оставила травму в душе на всю жизнь. «Здесь меня точно прихлопнуло. Меня подавили холод и сушь. Это самая тяжёлая пора моей жизни — первые годы в гимназии. Тяжело говорить. Холодные сухие люди. Слёзы. Много слёз ночью и днём, много страха», — вспоминал он. Учёба ему не давалась — видимо, из-за удушающей атмосферы. Он получал двойки и колы.
Тогда мать через три месяца перевела Ваню в другую гимназию, 6-ю московскую, — она располагалась в здании, которое сегодня занимает Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского. На новом месте дела у мальчика пошли гораздо лучше, он «ожил». Закончил Шмелёв эту гимназию почти с медалью — для неё не хватило всего полбалла. Хотя в пятом ему пришлось остаться на второй год. Причина, как следует из приведённого выше отрывка, в том, что Шмелёву крупно не повезло с учителем словесности, который не оценил «авторский приём» юного писателя в сочинении о храме Христа Спасителя.
О герое этого эпизода — учителе и инспекторе (то есть фактически завуче) Николае Ивановиче Баталии — другого яркого следа в истории, кроме этого воспоминания Шмелёва, не осталось. А вот следующий учитель словесности, к которому Иван попал как раз из-за поставленного Баталии кола (потому что пришлось остаться в пятом классе на второй год), известен не только по мемуарам Шмелёва. И с ним будущему писателю теперь уже наоборот — повезло, и очень крупно.
Этим учителем был Фёдор Владимирович Цветаев, дядя великой Марины Цветаевой и родной брат Ивана Владимировича Цветаева, филолога, искусствоведа, основателя Музея изящных искусств (ныне — знаменитый ГМИИ имени А. С. Пушкина).
Фёдор Владимирович всю жизнь работал учителем, и о том, насколько он был любим своими учениками и ученицами (а преподавал он ещё и в женской гимназии), говорит тот факт, что после его внезапной и довольно ранней кончины в 1901 году коллеги и ученики издали книгу воспоминаний о нём. «Его личность в течение всей его педагогической службы окружена была неизменной любовью», — написано там во вступлении. Судя по тому, что Иван Шмелёв сохранил светлую память о своём учителе на всю жизнь, это правда.